Подорожник
1
С волнением, передать которое едва ли возможно, ступил я на родную землю. Радость, переполнив сердце болью и нежностью, на несколько мгновений отняла у меня силы, и я стоял, счастливый, застигнутый врасплох минутой, ожиданием которой жил все эти долгие годы. Впереди, на той стороне реки Чу, за высокими, устремленными в небо тополями, виднелись белые, как чайки, домики родного аула.
Там и мой дом... Туда лежит моя дорога, но пока... пока что стою я на маленькой и совершенно безлюдной станции районного центра, села, в котором прошли мои школьные годы. До отчего порога ― рукой подать, но я решил про себя, что не стоит торопиться. Первым делом надо зайти в школу. Едва я вспомнил о ней, как в глубине души возник легкий, похожий на шелест листвы, шум, послышались в нем такие знакомые голоса, и я подумал, что так оно происходит, наверное, со всеми ― детство всегда оживает в наших сердцах в красках и звуках.
Школу я нашел быстро. Вот он дом, выложенный из красного кирпича и покрытый железом. Кирпич уже потемнел, а крыша местами подновлена свежими квадратами железа, да и сам дом, кажется, сгорбился и словно бы врос в землю.
Сердце мое сжалось, я стремительно перебежал неширокую улицу и оказался у прохладной шершавой стены школы. Раньше во всем селе, наверное, не было дома выше и красивее этого. А теперь... теперь он совсем затерялся в ряду высоких зданий. Не отрывая руки от стены, поглаживая кирпич, я приблизился к открытому настежь окну. Там, в классе, шел урок геометрии, я легко разобрал четкую запись на доске ― свойства равносторонних треугольников. Молоденькая смуглолицая учительница терпеливо объясняла классу эти самые, уже почти забытые мною, свойства треугольников, и мне казалось, что из открытого окна в самую душу мою веет чем-то бесконечно близким и дорогим моему сердцу и памяти. Я смотрел на малышей, смирно сидящих за партами, а видел другие лица, слышал другие голоса. Я возвращался памятью к тому времени, когда класс этот был моим классом. И почему, мелькнула мысль, нынешние дети такие маленькие? Потому, наверное, что нам в свое время пришлось повзрослеть намного раньше, чем им...
Вон за той партой, третьей во втором ряду, сидел Галимжан ― озорной, хулиганистый мальчишка. На переменах в него словно бес вселялся, он шалил и приставал к каждому. Любитель подраться, он, не раздумывая, пускал в ход кулаки, и мы, зная это, сторонились Галимжана, держались от него подальше.
Позади него... Вглядевшись, я не поверил своим глазам ― на откидной крышке низенькой парты, под свеже-наложенной краской были видны две, вырезанные перочинным ножичком, буквы -«3» и «К». Меня словно током ударило; я позабыл об осторожности, и мое присутствие обнаружилось ― сидевший за той партой рыженький вихрастый мальчишка удивленно уставился на меня, потом толкнул коленкой соседа, и они оба, раскрыв рты, впились в окно любопытными взглядами. Пригнувшись, я отшагнул от окна в сторону.
Две буквы. Они внезапно высветили и оживили в моей душе полузабытый образ. Я прикрыл глаза и ясно увидел перед собой ее лицо. Зина... Девочка, что сидела со мной за одной партой. Вот за этой самой: у нее был ласковый и отчего-то всегда немного виноватый взгляд, может быть, потому виноватый, что учение давалось ей нелегко. Помню, как я мучился, как переживал за нее, когда, стоя у доски и путанно, сбивчиво отвечая, она краснела перед всем классом.
Однажды мы писали сочинение. Я выбрал свободную тему и, раздумывая, о чем писать, вспомнил совет учительницы. Ребята, говорила она, будет очень хорошо, если вы подробнее расскажете в сочинении о самых первых днях учебы... Прекрасно, решил я про себя, об этом и напишу.
А что же Зина? Я взглянул на соседку и понял ― надеется она только на меня. Тут же решил: пусть списывает. Плохо только то, что Зина готова была списать мое сочинение полностью, от точки до точки. Прикинув в уме первое предложение, я быстро, но старательно вывел:
«И аул наш, что находится недалеко отсюда, и колхоз носят одно название ― Кербулак».
Скосив глаза, замечаю, что Зина слово в слово переносит в свою тетрадку написанное мной. Спрашиваю шепотом:
― А ты где, в какой школе училась?
― В Аягузе.
― Так и пиши...
― Ой, боюсь... не сумею.
Я отвернулся и, перечитав начало сочинения, стал вспоминать те годы, когда пошел в школу. В памяти легко оживало прошлое, и так же легко находились, складывались в предложения слова:
«В ауле нашем была только начальная школа. И директором ее, и учителем, и завучем был один человек, огненно-рыжий, высокий и большерукий. Звали его Бейсеком...»
― А мне? Мне тоже так писать?
― Измени имя учителя.
― Стыдно...
― Ладно, будь, что будет... Вместе ответим. ― И ты?
― И я.
...Еле слышный шепот Зины, ее близкое дыхание и всегда робкий, виноватый взгляд волновали меня тогда. И сейчас, стоя у открытого окна класса, я вновь испытал те же самые чувства, только к радости моей и волнению горькой каплей добавилась боль невозвратимой утраты.
«...Все предметы он вел сам. Случалось, что Бейсекен уезжал на базар или на свадьбу, тогда учителем становилась его жена. Лицо ее всегда было болезненно-бледным. Кисти рук унизаны множеством браслетов. Боялись мы ее больше, чем Бейсекена. Тот, если не ответишь толково на вопрос, только слегка щелкнет по затылку, а она ударить старалась браслетом. Больно, а пикнуть ― не смей, вот и терпели мы, только всхлипывали украдкой...»
― Этого я не могу писать, ― на черных ресницах Зины навернулись слезинки.
― Почему?
― У нас такого не было.
― Ну и что? Списывай.
― Ругать ведь будут.
― Ну, скажешь, что выдумала, сочинила.
Зина пригорюнилась, мне было жалко ее, но что оставалось делать? Вздохнув, я снова взялся за ручку. «...И вопросы апай были странными:
― Что дороже ― бязь или ситец?
― Что быстрее ― поезд или машина?»
Хорошо, если не растеряешься и найдешься, что ответить, ну, а если нет, тогда сидишь и крутишь головой, как чабанский конь, почуявший свист плетки. А над нашими бедными головами побрякивали браслеты, раздавались презрительные слова разгневанной апай: «У, бездельники! Ничего не знаете и знать не желаете, шалопаи!».
До сих пор толком не знаю, сколько комнат было в нашей школе. Ребята всех классов ― от первого до четвертого― занимались вместе. Неразбериха полная. Случалось, мы просто путались, определяя, кто в каком классе учится. Я и еще несколько мальчишек считались учениками четвертого класса, но в любую минуту каждый из нас мог оказаться за партой третьего или второго класса. Таким способом Бейсекен наказывал нас за провинности. Зато, если удавалось чем-то отличиться, агай доверял счастливчику учить детей младших классов. Что и говорить ― приятно было побывать учителем, лично я сразу вырастал в собственных глазах до небес. Но... помню, как горько закончился один из дней моего «учительства». Бейсекен призвал меня и дал поручение поймать и привести к школе его буланого с лысиной коня, на нем учитель наш совершал иногда торжественные выезды на кокпар. Я думал, что легко справлюсь с поручением, да не тут-то было. Конь оказался чистым сатаной, я гонялся за ним целый день, все ноги изранил о камни, но жеребца так и не поймал. Провинность моя, по мнению агая, была чрезвычайной, и в наказание за то я был немедленно переведен из четвертого класса в первый...»
― Какой строгий!― шепот Зины смешал мои мысли.
― Кто?
― Учитель ваш.
― Ничего... Я даже скучаю, когда вспоминаю те дни. «В дальней боковой комнате хранились в беспорядке дрова, в наваленном кучей саксауле сам шайтан ногу бы сломал. На пороге той комнаты всегда лежала рыжая гончая собака, вечно голодная. Однажды она укусила Алтынбуби ― схватила девочку за руку, и с тех пор мы туда не стали заглядывать.
В комнате, что рядом с боковой, держали скот ― с десяток овец и коз и две коровы. Перегородки в доме были тонкие, и, сидя за своими партами, мы слышали, как старая мать Бейсекена доит корову. Звенела о подойник струя молока, а когда коровы не стояли спокойно, старая женщина ворчала на них, осыпая животных беззлобными проклятиями».
Прозвенел звонок, мы сдали сочинения. В тот день Зина была ко мне особенно внимательна. Улучив минуту, когда мы остались одни, она подошла и прошептала:
― Ты хороший, Калау... Очень хороший.
― И ты сама... тоже хорошая, ― я порядком растерялся.
...На другой день учительница принесла проверенные работы. Я заметил, что апай пристально оглядела сначала меня, потом Зину. Я выдержал взгляд учительницы, а Зина ― нет, она низко опустила голову, лицо ее вспыхнуло.
― Каржаубаев!
Я поднялся.
― Списал у соседки?
― Немного подглядывал.
― Так... А знаешь, как это называется? Я молчал.
Учительница, конечно, поняла, кто у кого списал, но тем горше слова ее ранили Зину. Меня лукавый ход апай мало трогал, сердце мое болело за девочку, ради нее я готов был все стерпеть. Учительница, улыбаясь и делая вид, что ни о чем не догадывается, обратилась к ней:
― А ты, Зина, молодец! Замечательно написала...
Закрыв лицо руками, соседка моя разрыдалась и плакала до конца урока, а на перемене, не спросив ни у кого разрешения, ушла домой.
...В тот день я и вырезал на парте первые буквы наших имен «3» и «К».
...Заслышав позади себя шаги, я обернулся и смущенно поприветствовал пожилую, скромно одетую женщину в очках. Она приблизилась ко мне и мягко, но строго сказала:
― Верно, вы ждете кого-нибудь... Дети видят вас в окно и отвлекаются. Пройдите вон туда...
И указала на низенькую скамейку под деревьями. Я извинился и послушно, как провинившийся школьник, направился к скамейке.
Женщина не узнала меня. И не мудрено ― за эти долгие годы немало прошло перед ней таких вот черноволосых, как я, пацанов. Но я-то узнал ее. Фамилия женщины, если память мне не изменяет, Каримова. Я не учился у нее, но именно с нею связан один неприятный эпизод, о котором мне, признаться, совсем не хотелось вспоминать...
В тот год, когда я закончил начальную школу, шло укрупнение колхозов. Мы, несколько мальчишек, не знали, куда податься, где учиться дальше. Кое у кого нашлись родственники в колхозе, присоединившемся к нашему, но у моей мамы там никого из близких не было, а с переездом дело затягивалось. Оставалось одно ― по совету добрых людей устроиться в школу-интернат. Словом, стал я готовиться в дорогу. Сборы были недолгими, но уехать в райцентр, не поговорив с нашим атаманом Актумаком, было бы тяжким грехом. Не мог я не доложиться знаменитому атаману всех аульных мальчишек, который знал обо всем, что творится на земном шаре. Я, как и все ребятишки аула, считал Актумака большим человеком. Это от него мы впервые услышали о том, какие страны есть на свете, это он открыл нам чудесные свойства травы ― истиген ― оказывается, из этой травки, а ее близ нашего аула видимо-невидимо, делают различные лекарства. А каким восторгом наполнялись наши сердца, когда Актумак, понизив голос, говорил, что непременно, как только вырастет, станет разведчиком. Но больше всего любили мы слушать рассказ Актумака о том, какой у него умный козел. Оседлав его, атаман наезжал в соседний колхоз «Караул-Тюбе», бывало, что и дрался там с местными ребятишками.
Он же, наш атаман, учил нас и курить. Сначала, конечно, пристрастился к курению сам. Однажды, помню, вернулся из районного центра с... кисетом. А в кисете, под завязку, махорка. Газета и спички лежали у него за подкладкой фуражки. Свернул он цигарку, закурил, и мы от удивления даже присели ― атаман выпускал синие колечки дыма не только ртом, на и носом. С той минуты мы не отходили от него ни на шаг.
Когда атаман пребывал в хорошем настроении, он и нам скручивал по тоненькой, как усики кота, цигарке.
Курить нам хотелось, но по-настоящему делать это мы не умели. Наберем полный рот дыма и выпускаем его, важно пыхтя и отдуваясь. Табак раздирал горло, обжигал легкие, мы синели, задыхались от кашля и, ошалев, подолгу не могли прийти в себя. Но страдания наши не встречали сочувствия, наоборот, Актумак сердился:
― Эх вы! Вам не курить, а масло глотать...
Ну как я мог не доложить о своем отъезде атаману? Выслушав, он нахмурился:
― Пропасть хочешь? Что же, поезжай... Вот загонят тебе там в ноздри кукурузу или сотворят велосипед, тогда узнаешь, какой он, интернат. Такие там пацаны...
Я тогда не знал, что атаман стращает меня, преследуя одну цель ― не отпустить, отговорить меня, и робко спросил:
― Велосипед? Что это такое?
― А всунут между пальцами ног бумагу и подожгут.
― Зачем же так делают?
― Привыкли... Им всегда надо бить кого-нибудь.
― А учитель не поможет?
― Ха, учитель! Он что, уследит за каждым? Да они и учителя, если им захочется...
― Брось, не может такого быть!
― Он еще и не верит! Ничего, изметелят разок ― поверишь. Брось, а! Да там знаешь, как бьют! Нос ― в лепешку.
― Ты что, видел?
― А то! Как-то раз мы с дедушкой проезжали мимо интерната, пять или шесть пацанов увязались за нами. Мы на гнедом нашем еле ушли. А попались бы к ним в руки, крепко бы помяли нам бока.
Атаман говорил энергично и убедительно, но я не очень поверил ему. Да где это слыхано, чтобы школьники учителя не слушались, руку на него поднимали... Попробовали бы они сотворить такое с нашим Бейсекеном, тот бы их мигом успокоил.
Но тревога и сомнения все же закрались в мою душу. Здесь-то, в ауле, все привычно, а там, считай, город, там и порядки, наверное, другие. Не лучше ли остаться дома, взять и сказать матери ― так, мол, и так, остаюсь.
Вечером исподволь начал я разговор, выложил матери свои страхи и, рассказывая, сослался на авторитет атамана. Мать руками всплеснула:
― Врет же, сорванец! А ты и поверил, уши развесил. Да там многие учатся и хорошими людьми вырастают. Страхи твои, сынок, понятны, ты еще от родного порога не уходил далеко. Ничего, привыкнешь и к интернату, он для тебя родным домом станет... Глупенький!
Мама обняла меня, прижала к груди:
― На одной лепешке с водой жить буду, а тебя от ученья не оторву...
Наутро с фининспектором Ажибеком я отправился в районный центр. Выехали верхом. Пегий конь, постригивая острыми ушами, шел ровно, я за спиной Ажибека покачивался в такт плавному бегу коня и думал, что было бы хорошо ехать долго-долго и далеко-далеко, до самого края наших широких и привольных степей. Бежит пегий конь, весело потряхивая гривой, Ажекен временами возгласами «айтту» и толчками в бок понукает его, но делает это скорее по привычке. Я думаю, что и вскрикивает он тогда, когда обрываются вдруг его длинные мысли. Вскрикнет и вновь умолкнет, надолго погружаясь в свои бесконечные думы. До меня ему нет никакого дела. Сползи я с коня ― и не заметил бы, наверное. Сидит себе в седле, покачивается ― и ни слова.
Делать нечего... Однообразное движение скоро прискучило, и я, так же, как Ажибек, погрузился в думы. Интересно ― интернатовские мальчишки играют в альчики или нет? Хорошо, если бы играли ― я бы им показал класс своей зеленой сакой, залитой свинцом. Жаль, что от нее отбился кусочек, но беда не велика, в цель все равно попадаю точно.
А если они вызовут меня на шапкодрание? Ладно, пусть вызывают, я соглашусь. Ну, а вдруг кто-нибудь драться предложит? Им, конечно, легче, дома и стены помогают, дома каждый батыр и храбрец. Я сразу-то кулаки в ход пускать не стану, но и страха не покажу. Чтобы носа не задирали, с любым в честной борьбе силой померяюсь, покажу, что и я ― парень не из робких. Главное в борьбе ― ловчее ухватить противника, а там, падая, можно кинуть его через голову. Верный прием...
Мысли мои прервал Ажекен; незаметно для самого себя он заговорил вслух. Пробубнив что-то, упомянул бога, вздохнул и провел открытыми ладонями по лицу. Спросил не оглядываясь:
― Как, не дремлешь? ― Нет.
― Смотри, не свались с коня.
Он ударил пегого пинком в бок, понукнул его голосом и снова замолк. Тут только я понял, отчего это он забормотал вслух, отчего упомянул бога. Оказывается, мы поравнялись с могилой Даркенбая, над ней высоко вздымается четырехугольное надгробье. Памятник Даркенбая я уже видел однажды, лет пять тому назад. Сейчас надгробие потемнело, а тогда стояло совершенно новенькое.
...Дело, помнится, было вечером, когда солнце уже зашло, и на землю опускались сумерки. Несколько мужчин, погрузив на бричку клевер, кукурузу, муку, отправились на базар. Я тоже, захватив мешок семечек, с разрешения матери поехал с ними. Одного бы она меня не отпустила.
Мужчины, позабыв обо мне, негромко разговаривали, я вслушивался ― речь шла о Даркенбае, мимо могилы которого как раз и катилась наша бричка.
― Настоящим джигитом был покойный, ― сказал Имаш, старший из мужчин.
И он, и все остальные сотворили короткую молитву.
― Жалко, ― Радан вздохнул. ― Четыре года воевал, живым и невредимым вернулся, орденов полная грудь... А здесь, от руки каких-то негодяев...
― Горячий парень был, не поберегся, вот и...
― А как он погиб? ― спросил Найзабек, он к тому времени только что переехал в Кербулак из горного аула.
― Простая душа у парня была,― в голосе Имаша звучало искреннее уважение. ― С орденами вернулся, а носа перед людьми не задирал, славой не кичился. И работать любил. За колхозным скотом как за своим собственным ходил. Однажды не досчитался коровы. Кинулся искать, и вот здесь, ― Имаш повел рукой, указывая место, ― настиг грабителей, те уже зарезали корову. Их четверо, а он один. Другой бы пожалел свою жизнь, а Даркенбай нет, не такой он был человек. Да... Только через два дня нашли труп парня. Топором, сволочи, изрубили, места живого не оставили. Но и мертвого испугались, наверное, ушли и корову тут же бросили. Вот так и погиб Даркенбай...
Имаш умолк, опустил голову; и никто из мужчин не решался нарушить молчания. А меня охватил страх, мне еще не приходилось испытывать такой гнетущей тишины ― только скрип рыдвана да жалобные вздохи волов нарушали ее. Отливая золотом, полумесяц над густыми зарослями камыша казался мне топором, которым разбойники убили Даркенбая. А вдруг, мелькнула ужасная мысль, вдруг они и сейчас затаились где-нибудь поблизости и ждут нас...
Мужчины тем временем снова стали переговариваться, но мне, занятому мыслями о разбойниках, слушать их не хотелось. Я развязал сноп клевера, забился в душистую траву с головой и притих, как мышонок. Осенняя ночь холодна... Резкие порывы ветра доставали меня в моем укрытии, и тогда словно десятки колючек впивались в тело. Временами бричка вкатывалась в полосу теплого нагретого воздуха, но спустя несколько минут наши лица вновь обдувало пронизывающим сырым холодом. Беспокойно мерцали на небе звезды, порой доносился из нашего аула лай собак, и я легко различал их по голосам. Густым басом, солидно, с сознанием собственной силы, лаял пес Тажи, тонко и злобно тявкала сучка Жакай. А со стороны Чу плыл несмолкаемый хор лягушек ― кваканье их походило на беспорядочное бульканье воды и временами сливалось в шум, безмерный и бездонный. Стоило прикрыть ладонью одно ухо, потом быстро открыть его ― тотчас казалось, что далеко-далеко раздается пение спорщиков на айтысе...
Много лет, почти полжизни прошло с той ночи, но и сейчас, в минуты нелегких раздумий, я возвращаюсь памятью и сердцем в те далекие годы и вновь, волнуясь, слышу однообразное, убаюкивающее пение лягушек. В такие минуты страстно хочется хотя бы ненадолго вернуться в беззаботное, наполненное яркими красками и сочными звуками, детство...
В райцентре наши дороги с Ажекеном разошлись.
― Вон, смотри, твоя школа,― он махнул рукой на красный дом и ушел по своим делам.
Я огляделся по сторонам и двинулся вперед. Идти оказалось трудно ― уж больно много народу на улице и каждый спешит, а куда ― не поймешь. Я опустил глаза и чуть не задохнулся от радости, увидев под ногами множество окурков. Вот бы позавидовал Актумак! Не мешкая, я стал собирать бычки, складывая их в фуражку. До глубины души возмутили меня безалаберность и расточительство горожан. Надо же ― бросать под ноги лишь наполовину, а то и меньше, чем наполовину, выкуренные папиросы.
В пять минут фуражка моя была полная. Но недалеко от базара я натолкнулся еще на целый склад замечательных бычков. Пришлось заняться сортировкой окурков. Те, что покороче, я, не без внутреннего сожаления, выбрасывал и дальше стал подбирать с разбором. Сердце мое замирало от предвкушения скорого блаженства. Эх, ребята в ауле рты от удивления раскроют! Жаль, что сейчас нет их рядом.
Отыскав укромное местечко, я хорошенько уложил свое богатство в фуражку и, нахлобучив ее на свои непослушные вихры, направился к школе. Шел в приподнятом настроении и скоро поравнялся с лотком мороженицы. Мороженого я до того дня не знал и наверняка прошел бы мимо, но мое внимание привлекли дети, что стояли в очереди. Пригляделся я, подумал, и тоже решился. Деньги у меня имелись ― мать дала, чтобы купить сладостей к празднику. Опасливо оглядываясь, я ослабил ремень брюк и на ощупь вытащил два рубля. Провожая меня, мать наказала, чтобы я все деньги разом не вынимал.
Кажется, только разок и лизнул я белую и холодную, как лед, массу, а гляди, уже и дно стаканчика показалось. Никогда в жизни не доводилось мне есть ничего вкуснее и слаще! Эх, возьму-ка еще порцию...
Удивительное лакомство заставило меня несколько раз становиться в хвост очереди. Боясь потратить все деньги, я, наконец, повернул к школе. Тихо, бочком вошел в помещение. Там толкнул первую же дверь и увидел женщину в темном, строгое платье. Она заметила меня и удивленно вскинула брови:
― Эй, мальчик, ты кто?
― Ученик.
― Откуда ты?
― Из Кербулака.
Я подумал, что самое время предъявить документы и уже, было запустил руку в карман, но апай жестом остановила меня:
― Если ты ученик, то запомни, что прежде, чем входить, надо постучать в дверь. А теперь, сними головной убор.
Едва я приподнял фуражку, как из нее горохом посыпались окурки, о которых я, как на грех, позабыл. Уют и тишина класса в одно мгновение нарушились: я, покраснев до корней волос, стоял посреди кучи мусора и растерянно хлопал глазами. Сердце стучало так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Апай, видимо, потрясенная не меньше меня, молчала и так таращила глаза, словно все это безобразие было делом ее, а не моих рук. Наконец пришла в себя от изумления и, приоткрыв дверь, крикнула:
― Баймен, эй, Баймен! Иди посмотри, какой замечательный ученик к нам явился.
Она склонилась, чтобы подобрать окурок, и я, освобожденный от власти ее взгляда, козленком скакнул к двери и помчался прочь, что было духу. Бежал до тех пор, пока не отказало дыхание. Лишь тогда оглянулся и с удивлением обнаружил, что зеленый остров райцентра оказался позади и что стою я на дороге, ведущей к нашему аулу. Передохнув, пешком отправился домой.
2
Прозвенел звонок... Как вода, пущенная в сухое русло канала, вырвалась из дверей школы толпа мальчишек и девчонок и в одну минуту рассыпалась по сторонам, затопила, заполонила весь двор. Двое малышей, обгоняя друг друга, мчались к турнику. Подскочив, повисли на перекладине, пытаясь раскрутить «солнце». Близкая, знакомая сердцу картина. Мне, помню, случалось и падать с турника, морщась не так от боли, как от обиды. И драться случалось...
Девочки, что-то выкрикивая и потряхивая бантиками, стали играть в «мак». Играли и мы, так же стояли парами, нетерпеливо ожидай своей очереди, чтобы с веселым смехом, ускользая от руки преследователя, промчаться по кругу. И сейчас у меня было такое ощущение, будто я ступаю по собственным следам, ступаю осторожно, словно раздумывая, было это со мной, или не было?
Я смотрел на беззаботные и безобидные игры детей, и в груди моей поднималась, затопляя сердце, теплая волна нежности. Те же игры и шалости, то же баловство и все же... все же другое детство, не мое, шумело и ликовало сейчас вокруг меня, другие малыши, похожие на нас, и все же совсем-совсем другие играли на школьном дворе.
Один из мальчиков вдруг отделился от товарищей и, явно робея, приблизился ко мне, оглянулся зачем-то и сдернул с головы фуражку. Я с приветливой улыбкой смотрел на него, лицо мальчугана показалось мне знакомым, знакомыми были его глаза, круглые и глубоко посаженные. Да, точно, где-то я видел его, или... или он здорово похож на человека, которого я хорошо знаю.
― Подойди ко мне, милый... Здравствуй! Маленькие пальчики малыша утонули в моей ладони. Переступив с ноги на ногу, он сказал:
― А я вас знаю.
― Да? Откуда же?
― А у нас дома есть фотография, вы на ней вместе с папой сняты.
― А кто твой папа? Как зовут его?
― Альдижан.
Только тут я сообразил, что вижу перед собой сына своего бывшего товарища. Мальчуган ― вылитый отец. Стороной я слышал, что Альдижан поручил воспитание своего первенца сестре, живущей здесь, в райцентре.
― Каков молодец!― я ласково взъерошил мальчишке волосы.― А как тебя зовут?
― Куаныш.
― В каком же ты классе?
― В первом.
― Папа приезжает к тебе?
― Вчера из Джамбула приехал.
― Вот как. А сейчас где он?
― За мороженым пошел. Сейчас принесет. Зазвенел звонок. Мальчик махнул рукой, потоптался на месте ― видимо, ему очень хотелось остаться со мной.
― Иди на урок, Куаныш, иди... Я найду твоего папу. А потом мы втроем будем есть мороженое. Идет?
Он кивнул и вприпрыжку побежал в класс, а я подумал, что мальчуган, наверное, огорчился, не дождавшись отца. Я и сам, размышляя сейчас об этом, ощутил на губах прохладную сладость мороженого.
Едва Куаныш скрылся в дверях школы, как на той стороне улицы, вывернув из-за угла книжного магазина, показался Альдижан. Он и в детстве худеньким не был, а сейчас еще больше раздобрел.
Я стоял на открытом месте, Альдижан издалека заприметил меня и, вглядевшись, озадаченно вскрикнул:
― Никак, Калау?! Вот неожиданность... Откуда ты? Каким ветром тебя занесло сюда?
Он обнял, крепко притиснул меня к себе.
― Сколько лет, Калау, сколько зим!
― А я смотрю и в толк не возьму, кто же это и зачем в живот мешок набитый затолкал. Это что же такое, куда это годится?
― А, и не говори!-он еще раз обнял меня.― А ты все тот же... Какой был в студентах, таким и остался. Ну, как дела? Когда приехал?
― Только что с поезда. А дела ― помаленьку. Работаю в обкоме. Здесь ― в командировке. Сына твоего уже видел.
― Куаныша?
― Ага... Вырос парень, большой уже.
― Как же ты узнал его?
― Сам подошел. Поговорили...
― Смотри, шустрый какой!
― В отца пошел. Как учится он?
― Трудная сейчас программа, нелегко, конечно, приходится.
Сам Альдижан учился хорошо, хотя и был мальчишкой со странностями. Не захочет отвечать ― не заставишь. Однажды, помню, вызвал его историк к доске, задал вопрос, Альдижан молчит. Учитель, недоумевая, повторил вопрос ― Альдижан словно воды в рот набрал. Историк, понятное дело, рассердился, встал из-за стола:
― Эй, Калдыбаев, ты что, язык проглотил? Почему молчишь?
Альдижан повел на учителя круглыми глазами и брякнул:
― А что мне делать, если у отца живот болит?
Не знаю, как у отца его, а вот наши животы от смеха точно заболели... И сейчас, вспомнив тот случай, я с улыбкой смотрел на старого товарища.
3
Когда-то на этом месте реки стоял, спрямляя дорогу и пешим и конным, мост. Все то же чувство тоски и нежности привело меня сюда. Плеск неумолчно кипящих волн напомнил о том, как я, по дороге в школу, прятался здесь под расщепленным скрипучим настилом, и как потом с криком выскакивал, пугая опаздывающих на урок девчонок.
А надписи, врезанные в потемневшие сваи моста... Не знаю, как у кого, а в моей душе они сливаются в одну ликующую светлую поэму. Когда, бывало, накатывала на меня тоска по дому, я вспоминал мост, и это воспоминание теплым крылом своим согревало и успокаивало. Поэтому и пришел я сейчас сюда, хотя Альдижан и предупредил о том, что моста давно уже нет...
Да, моста не было... Странно оголенная река казалась суровой и двигалась живее и беспорядочнее, как скакун, с которого сняли седло. То там, то здесь вспыхивали на воде ямочки, а вскипев, тут же исчезали. Спиралеобразные омуты, обгоняя друг друга, кружили по течению, как оброненные кем-то кольца.
Я склонился и ладонью зачерпнул воды. Волна вскинулась, сверкнула на солнце улыбкой и, скользнув по руке, как ртуть, умчалась. И что-то унесла с собой. Потерянно смотрел я ей вслед, уже понимая, что здесь ничто не напомнит мне детства. Нет моста, по которому бы я, вопреки всем законам бытия, мог шагнуть в свое прошлое.
― И на стороне свекла, ― Альдижан осторожно прервал молчание.
― Значит, сенокоса тоже нет?
― Куда-а! До самого Коктюбе посевы.
― А вода?
― Перекрыли Тасоткел. Все нижние колхозы воду берут оттуда.
― А новый мост... Этот, что ли?
― Да... Хорош?
― Не плох...
Если честно, то новый мост в эту минуту никаких радостных и приятных чувств во мне не вызывал. Я даже с каким-то раздражением поглядывал на его строгие линии. Ну что в нем? Стоит холодный и понурый, как скакун у коновязи, позабытый хозяином. И дорога через этот мост ― не ближе, нашим аулчанам порядочный крюк приходится делать. Обо всем этом я подумал про себя, Альдижану ничего не сказал...
Не торопясь, шли мы берегом, почти по колено утопая в густой зелени. Травы уже набрали восковую спелость, но время косовицы еще не настало. Я смотрел на густой зеленый заслон, и все тело мое наливалось тяжелой силой ― это пробудился в душе полузабытый азарт сенокоса. Мне показалось даже, что я слышу певучий звон отточенной косы.
Раньше все вокруг, по обе стороны реки, занимали покосы, и травы здесь были такие, что и за два лета не выкосить их. Сочные, богатые... Тот, кто держит скотину, знает цену с лета заготовленным кормам. Так и мы... Месяцами жили здесь, и все лето косили, сбивая высокие стога.
В последний раз косил я травы... Когда же это было? Ну да, конечно, тем летом мы с Альдижаном как раз в университет поступали, и радости нашей не было предела. От радости и еще по глупости такое тогда выкидывали, что и сейчас, вспоминая, готов от стыда сквозь землю провалиться...
― О-о, двое наших ребят, слыхали, учиться поступили, ― аул гудел, как потревоженный улей. ― Среди многих и многих победителями вышли. Настоящие джигиты!
― Молодцы, постояли за честь аула!― Мусабек гордо вскидывал голову, словно это он сам поступил в университет.― Говорю, молодцы!
― Нелегко, бедным, пришлось... Смотрите, как похудели, ― Кара-апа искренне жалела нас, всплескивала руками.― И это за какой-то месяц!
― Что за учеба? ― любопытствовали некоторые. ― Кем вы будете?
― Ого!― в один голос отвечали мы. ― Там готовят руководящих работников, так что, сами понимаете...
Аулчане, слушая нас, с удивлением покачивали головами. А мы, видя всеобщее одобрение, уже не могли остановиться и стали нести небылицы, одну невероятнее другой. Начал я:
― Сто человек одно место оспаривали!
Ляпнув такое, я краснею и таращу глаза, но Альдижан идет еще дальше.
― Можете не верить, ― он говорит важно, с достоинством, ― но что было, то было... Желающие поступать съехались из шестнадцати областей... Тьма народу. И только нас двоих отметили. По имени перед всеми назвали и по голове погладили.
Аулчане довольны нами, на похвалу не скупятся. И мы бродим по аулу, обласканные всеобщей любовью. Но все на свете когда-нибудь да кончается. Однажды отец Альдижана призвал нас к себе и, насмешливо щурясь, сказал:
― Ну, джигиты, досыта погуляли? Так-так... Славой да похвалой сыт не будешь. Так что собирайтесь на сенокос.
Работать так работать... На утренней зорьке пришли к реке. Гул похвалы, как старое вино, кружил наши слабые головы, воображение рисовало такие картины, что дух захватывало. Поработав немного, отложили косы и мигом сбегали на ту сторону за вином. Две бутылки взяли. Лежим на траве, пьем и без удержу хвалим друг друга.
― Скажи сам, Кауке, есть ли в нашем роду такие, кто в городе учился? Нет таких... Мы с тобой в этом деле ― пионеры, первые ласточки, мы всем остальным открыли и показали путь к науке, образованию. Или не так?
― Так, Альдеке, твоя правда. Можно сказать, в небо взлетели, на луну, к звездам. Кто бы вчера мог подумать, что из сына пастуха, как ты, или сына свекловода, как я, большие люди выйдут?
― И заметь ― своими силами поступили. Ночей не спали, а добились, не то что сыновья Егеубая и Заукетая. Они-то вернулись не поступив. Позор!
Альдижан опрокинулся на спину и долго, на всю степь, смеялся.
― Вот выучимся, приедем, шоферами их к себе возьмем. Да и то прежде крепко подумаем. А, Кауке?
Мы опять, довольные собой, катаемся по траве и смеемся.
― Теперь, Кауке, все девушки в ауле наши, ― Альдижан откупорил вторую бутылку. ― Приедем на каникулы ― отбою не будет. Вот увидишь, девчонки из-за нас передерутся.
― Да,― я соглашаюсь,
― Надо, пожалуй, с младшей дочкой Атабека подружиться. С той, что в десятый класс осенью пойдет. А что, и попробую... Куда она денется? Костюм городской на мне будет, очки темные на глазах... Сама прибежит и на шею кинется.
― Я бы тоже приоделся, да корову рыжую никак продать не можем.
― Не горюй, Кауке... Помогу тебе, так и быть. А сейчас выпьем давай за нашу дружбу, за наш авторитет...
Выпили. Опустела и вторая бутылка. Альдижан повертел ее в руках и швырнул в сторону со словами:
― Пусть найдут их и позавидуют нам какие-нибудь там... Аралбек, например, или Дуйсен...
За разговором мы и не заметили, как подкрался вечер. Тени, сгущаясь, накрыли луговину, вода в реке потемнела, веяло от нее влагой и резкой свежестью. К аулу мы подошли с песнями...
...Погруженный в мысли и воспоминания, я шел молча. Молчал и Альдижан. Так мы и перешли новый мост. Через некоторое время дорога, петляя, вывела нас точно к тому месту, где мы с Альдижаном, счастливые и от счастья смешные и глупые, в таких безудержных красках рисовали себе свое будущее. Улыбаясь, я подтолкнул плечом друга и спросил:
― А что, Альдижан, не поискать ли нам те бутылки?
― Какие?
― Забыл, что ли? В институт когда поступили, сидели здесь.
― Ну, вспомнил! Нет их, конечно, давно нет.
― Все же давай поищем... А вдруг?
― Брось... Не стоит попусту время тратить.
― А где сейчас Ширин, дочка Атабека?
― А-а-а! Она в Чу, вышла за сына Шадиходжи. А ты чего о ней вспомнил?
― Ты же дружить с ней хотел. Говорил ― сама на шею бросится...
― Э-э детство... А глаза у нее были красивые. Да, ты Асылтай помнишь?
― Дочь Наурузбая?
― Ту самую. Умерла она... прошлой осенью.
― Как?
Ужас сковал меня. Взгляд, блуждая, наткнулся на кладбище, с которым мы только что поравнялись.
― Умерла. Вот так, ― Альдижан вздохнул. ― Какая девушка была... Вон, смотри, ее могила...
Белая башня-памятник качнулась в моих глазах, стала тонкой и прозрачной, как легкий туман, и в тумане этом, скорбное, взошло ее лицо, послышался шепот, тихий, как шепот трав: «Здравствуй, друг Калау... Что-то редко ты наведываешься в наши места. Сердце ли твое остыло, или память ослабла, но позабыл ты, что родная земля ― золотая люлька, баюкающая человека до его последнего часа. А ты... ты даже о моей смерти ничего не знаешь... Но что ― я? Ты подумай о матери своей единственной, у нее же, кроме тебя, нет на земле никого. Занятый самим собой, ты все же найди время, друг, и подумай...»
Из писем я знал о том, что Асылтай взяла мою мать в свое звено, всегда и во всем помогала ей, часто заходила к ней домой, а иногда оставалась со старушкой до утра. Я не придавал этому большого значения, считая, что поступок девушки ― обычное дело, каждый из нас на ее месте, думал я, поступил бы точно так же. Сейчас мне уже не узнать, что хранилось в глубине доброго сердца моей подруги.
4
К аулу мы подошли ночью. Постояли немного, договариваясь о встрече наутро. Альдижан помахал рукой, шагнул в сторону, и его грузная фигура тотчас растворилась в темноте неширокой улицы. Я проводил его взглядом, чувствуя, как нарастает в сердце, сжимает его глухое, долго сдерживаемое волнение.
Даже сейчас, ночью, хорошо было видно, как постарел наш маленький, бессчетное число раз ремонтированный домик. И тебя, дружище, подумал я, не пощадили годы. Мне понятен твой молчаливый упрек, я принимаю его и прошу: если можешь, прости. На глаза мои неожиданно навернулись слезы, и только огромным усилием воли удалось сдержать их.
Я подошел к окну и постучал ― тихо и осторожно. Видел, как мать, занятая чем-то, торопливо поднялась, недоуменно взглянула в окно:
― Кто там?
― Я, Ереке... Это я.
Мать я зову по имени. Бабушки у меня не было, и я из баловства поначалу обращался к ней так, а потом привык. Да и мать не возражала, охотно шутила со мной так, как шутила бы сноха с деверем. Сейчас она узнала меня по голосу и кинулась к двери с криком и плачем:
― Айналайын! Солнце мое!
Дверь распахнулась, и я обнял свою мать. Дорогое лицо, залитое слезами, утонуло в моих широких и огрубевших ладонях. Она то отстранялась, то вновь припадала к моей груди и, целуя, говорила и говорила нежные, ласковые слова:
― Солнышко, светик негасимый... Да как же так, откуда ты взялся, радость моя? Жив-здоров?
― Мама, пройдем же в комнату сначала...
А мать, наверное, от счастья и радости голову потеряла, кружилась на месте, искала двери и не находила их. За порогом споткнулась обо что-то, вскрикнула:
― Боже, что это ко мне прицепилось? А, окаянная, до смерти перепугала...
И она, смеясь уже, отшвырнула в сторону метлу, потянула меня за рукав поближе к свету:
― Радость моя! Похудел-то как!
И, не дожидаясь ответа, вновь схватила за руки, вновь припала к груди.
― Хватит, мама, довольно, ― я сделал попытку освободиться. ― Ты лучше о себе расскажи? Как у тебя дела?
― Мои дела... Или не знаешь ты их, сынок?
Мать, сдерживая слезы, стала вдруг такой маленькой и беззащитной, что сердце мое дрогнуло. Я попытался шуткой успокоить ее.
― Не надо, мама, не надо... А хочешь, старика хорошего найду тебе, все забот поменьше.
― Зачем мне дряхлый старик?― она улыбнулась.― Ты невестку в дом приведи, молодую и красивую.
Вот так на самого же себя, упомянув о старике, капкан поставил и попал в него. Невестка... Больной вопрос, мечты, не дающие матери покоя. Мы оба, по мере своих сил, стараемся не касаться этой щекотливой темы, но иногда, вот как сейчас, сходимся на тонком и шатком мостике, разойтись на котором нет никакой возможности.
― Мама, ― я улыбнулся, ― будет тебе невестка... Зачем торопиться? Ты лучше здоровье свое береги.
― Какое мое здоровье? Значит, так уж мне на роду написано ― увижу невестку, когда до земли согнусь. Другие старухи... ― она помолчала,-внучат нянчат.
― Ты хочешь сказать, что я в долгу? Если надо, я могу заплатить.
Шутка вышла неуклюжей, грубой даже, но мать не обратила на нее ровно никакого внимания.
― Приводи жену в дом, ― все повторяла она. ― Можно ли одному по свету мыкаться, подумай.
― Слушаю, апа... С утра начнем искать тебе невестку.
Она тяжело вздохнула, а я, подойдя, обнял ее за плечи. Постарела мать, постарела... Подбородок заострился, лицо, изрезанное глубокими морщинами, маленьким стало. И глаза угасли, потускнели... Я смотрел на нее и думал, что мало, очень мало на моем счету добрых дел...
― Так как же все-таки ты живешь?
― Обо мне не волнуйся.. Котел у меня свой, крыша над головой есть. Ты о себе подумай. Чем живешь, чем питаешься?
― Ну-у, столовых много.
― Да разве в столовой еда? Ты посмотри на себя ― бледный, тени под глазами... Приехал надолго?
― Несколько дней поживу.
― У людей... ― она опять помолчала, ― дети повозвращались, работают здесь...
― Жумахан институт закончил?
― Когда еще! Он уже с прошлого года управляющий. Дом выстроил из шести комнат.
― А Сайлау?
― Ох, сынок, ― она машет рукой, ― на этого глаза бы мои не смотрели. Пост хороший занимает, а толку что? Все, как есть, пропивает... Недавно пошла за пенсией и встретила его, пьяного. Пропащий человек. Правда, о тебе спрашивает. Да и другие товарищи твои, завидев меня, не отворачиваются. Обязательно остановятся, поприветствуют, поговорят.
― А что нынче посеяла?
― Клевер... В прошлом году кукуруза хорошая уродилась, да соседские коровы кое-где потравили. Не уследить за проклятыми... Пастуха нет, пасли их по очереди. Клевер, наверное, тоже неплохой получится. Так и живу, милый. Как говорится ― выше одних, ниже других. Кто на ногах, все в работе да заботе. Ты завтра к соседям наведайся ― стариков поприветствуй, уважь, детишек малых сладостями побалуй. Тем, у кого близкие умерли, а есть и такие, соболезнование выскажи. О боже!― мать всплеснула руками.― Сижу, разговариваю, а ты с дороги, голодный, наверное? Сейчас, сынок, приготовлю что-нибудь...
― Не надо, мама... я не голоден, зря не трудись.
― Как это ― зря не трудись? Не к чужим людям приехал, а к матери... За столько лет один раз родной порог переступил и от хлеба материнского отказываешься. Где же такое видано?
Мать вышла на кухню приготовить ужин, я остался один. Уютно и чисто в комнате. Пол застлан кошмой, украшенной орнаментом, на кошме короткие матрасики. Все четыре стены от пола до потолка закрыты коврами, в углу высокая стопка, отливающих бархатом, одеял. Тюлевые шторы на окнах, принимая на себя яркий свет лампочки, смягчают его, успокаивают. Облицованные сундуки, старые и потемневшие, будто улыбаются начищенной жестью... Хорошо и покойно. И также хорошо и покойно стало у меня на душе. Незаметно для себя, убаюканный легкими думами и тишиной, я уснул...
5
Проснулся от громких голосов в передней. Удивился, что уже утро. Видимо, я крепко спал, если ночь пролетела как одна минута.
А там, в передней, такой шум и гам, какой услышишь разве что на базаре. Прислушался и улыбнулся ― всего-то две женщины разговаривали.
― Ну вот, Калау приехал, душа твоя теперь успокоилась. Небось немало чего собрала для своего маленького. Давай-давай, все выкладывай, или я сама твои секреты Калау открою...
По голосу узнаю тетку Асембалу, мою крестную. Говорит она без умолку, матери моей, как видно, трудно вставить словечко.
― И не жди, не дам я тебе сегодня покоя. Ты и так все одна да одна. У человека, когда он за дастарханом один, зубы от еды желтеют. Давай-ка все, что под руку попадет.
― А за что? Так говоришь, словно брат твой непутевый жену привел. А если бы и вправду привел, что бы ты со мной сделала?
― Э, не сетуй по-пустому, не гневи бога... Гора, которую видишь, недалека. Еще растеряешься, не зная, кого из внучат нянчить, кому первому слезы вытереть.
― Жду не дождусь такого дня.
― Дождешься... Считай, что невестка одной ногой в доме...
― Твоими устами мед пить, милая..
― А, Ермеке, сын приехал, рада без памяти?
Кто это? Ага, Дамбай, муж тети Асембалы. Гудит, как колокол:
― Цветешь, Ермеке, на десять, нет, на пятнадцать лет помолодела...
― Спасибо на добром слове. Заходите в дом, заходите...
― Да я на минуту... Услыхал, что Калау приехал, дай, думаю, зайду...
― Зачем же на пороге стоять? Проходите... Чайку выпьете.
― А где сам баловник? Деньги-то за моего единственного козла отдаст или нет?
― Вернет... Он теперь большой человек. Будет жив ― вернет.
― Ойбой, умный козел был! Одни рога чего стоили... Актив колхозный собирали ― не резал, а Калау, в честь его дня рождения, отдал. Да откуда же этим шалопаям знать...
― С ума сошел старый, чего вспомнил,― тетушка Асембала энергично вмешалась в разговор, ― совсем рехнулся, что ли...
― А почему я должен забыть? Подумай сама ― голова с рогами, да еще копыта... А борода? О-ох, и борода была в метр длиной, не меньше...
― Вот врет, заслушаешься... Сиди спокойно, на свадьбе шубы не требуют.
― Ладно, так и быть, подожду, пока разбогатеет. После приду, поздравлю и серого с лысиной мерина заберу.
― Слава богу, успокоился... Давно бы так.
― Чего душа желает, то и возьмите, милые. Один у меня Калау, ради единственного ничего не жалко.
Как мало надо, чтобы успокоить материнское сердце. Поет и смеется оно, радостно на душе у матери. Я слышал ее смех и то, как вторил этому смеху веселый перезвон посуды в ее руках.
― Спасибо, Ермеке... Вкусным чаем напоила. Попозже, когда выспится, зайдем еще.
Ушли. Спать мне совсем не хотелось. Я быстро оделся и вышел к матери.
― Встал, жеребеночек мой! Полежал бы еще, а я тем временем Кенкильджаке позову... Барана зарежем.
― Належался я уже, бока ноют.
― Хочешь умыться ― в чайнике теплая вода. Вот мыло и полотенце... А я мигом туда и обратно. С обедом успеть бы управиться.
Милая, добрая мама! Нежная душа твоя переполнена счастьем, а сердце ― любовью. Кто еще, кроме матери, в такое утро подумал бы о теплой воде для мальчика, виски которого уже посеребрила седина...
Я вышел из дома и замер на пороге, захваченный красотой открывшейся моему взору. Солнце заливало лучами всю землю, и в свете его неистово и буйно сверкала влажная, чистая зелень. Дружно поднялся клевер и, распустив кудри, устлал огород. Клевер высок и так густ, что, забреди в него ягненок, не сразу и отыщешь. Обильная роса весело и серебристо, рассыпая по земле светлые искры, вспыхивает на солнце. А деревья... Когда я уезжал, они оставались маленькими, жизнь их была в полной зависимости от нашей любви и заботы, а теперь вот встали на земле спокойно и прочно, и в их густой приветливой кроне находит приют неисчислимое множество птиц, от пения которых дрожит, наполненный ароматом джиды, чистый воздух.
У порога, почти у дверей, приподнялись на тонкой ножке подсолнухи. Еще хрупкие и слабые ― кажется, тронь их и упадут ― они упорно и быстро будут тянуться к солнцу, с каждым днем набирая силу.
Рядом с домом ― узенький арычок, вода в нем и светлая, и чистая, подернута внутренней знобящей рябью. У арыка петух, гордо выпячивая грудь, яростно гребет острыми шпорами землю. Вот он замер на мгновенье, а потом вскрикнул, созывая на пиршество кур. А вся-то его добыча ― малая крупица, одно-единственное зернышко...
...Свои визиты я решил начать с дома Кара-апы. Из всех наших близких родственников она ― старшая по возрасту. Не знаю, как ее настоящее имя. Сколько помню себя, все в ауле звали ее Кара-апой, черной бабушкой.
― Кто ты, аке? ― Кара-апа, подслеповато щурясь, вглядывалась в меня.
― Калау, апа.
― Который Калау? А, как же, как же, сын Кыршылдаке. Слыхала, что ты недавно с брички упал, ногу зашиб... Как, прошло? И с новорожденным вас еще не поздравила. Прости меня, старую, шагу не могу отойти от своих голопузиков, у котла, как привязанный конь, день-деньской кружусь... Как маленькую назвали?
Чувствую ― путает она меня с кем-то, но сказать ничего не могу, старушка не дает мне и рта открыть, сыплет словами, как горохом:
― Слыхала, большим начальником в районе работаешь? Ну, что же, наше дело ― сторона... Тебе хорошо ― и нам радость. Проходи, милый, к дастархану...
― Апа, я сын Каржаубая.
― Е-е... вон ты кто! Наследник верблюдовода-шеке... Ай-ай, у твоей апы ум за разум заходит. Ничего в памяти не осталось... Когда с гор пришли?
― Апа, я сын Каржаубая-букейца...
― Ой, милый... Голова моя садовая, да как же это я не узнала тебя? Будь счастлив, милый... Отец твой покойный от радости перевернулся бы в могилке своей, наверное,― старушка сморщилась, две слезинки скатились по ее лицу, она обняла меня, прикоснулась ко лбу сухими губами. ― Значит, сыночек Каржау? Помню Каржау, да и как его забыть, если сын его вырос? Не дожил он, бедный, до счастливого дня,― она опять, может быть, вспомнив всех сородичей, погибших на войне, потянулась уголком платка к глазам. ― Когда приехал, мой жеребенок?
― Вчера вечером.
― Бедная Ермеке рада, наверное... Все слезы выплакала, вспоминая о своем единственном, все глаза проглядела... Дождалась, оплатились ее слезы горючие. Вырос сынок, мужчиной вернулся... Заходи в комнату, милый, отведай угощения... Боже, как быстро время идет, не уследишь за ним, не усмотришь...
Старушка засеменила к дому, я двинулся вслед за ней, но дорогу нам перекрыла ватага бабушкиных внуков; голопузики гурьбой стеснились у порога и, прячась друг за друга, с любопытством таращили на меня глазенки.
― Кыш, озорники, чтоб вы пропали! Ишь, выстроились, и не пройти.
Бабушкино ворчание голопузиков не испугало, они только чуть раздвинулись, давая нам дорогу.
― Брат со снохой на работе. На все лето, считай, пропали. Да и то ― мало ли в колхозе забот. А я, видишь, с какой оравой вожусь... Сил нету, память теряю, поясница мучает, да и глаза только светятся, а видеть, милый, плохо видят.
Жалуясь и охая, Кара-апа, тем не менее, дела не забывала ― проворно раскинула дастархан, положила лепешки, выставила сахар, конфеты, масло...
― Давно ты у нас не бывал, давно... По такому случаю барана бы надо резать...
Я боялся, что и Кара-апа начнет упрекать меня за то, что до сих пор не женился. Но Кара-апа, пошли ей бог на старости лет утешение, о женитьбе моей не заикалась.
― Так и живем, сынок, так и живем... Что они вдвоем зарабатывают, то и наше. На одно ― хватает, на другое ― нет. Брат твой в жизни правильную дорогу взял ― с прошлого года в учетчики пошел... Да ты бери лепешку, масло бери... Эй, Бибигуль, неси конфеты... А сладкую водичку, ту самую, выпьешь, когда брат и сноха явятся.
― Спасибо, аже, мне всего довольно.
Орава голопузиков тем временем сгрудилась на пороге и с этого, честно отвоеванного рубежа, посверкивала в мою сторону глазенками, карауля каждый мой жест и каждое слово. Я подмигнул им, и голопузики одобрительно и дружно засопели.
― Молоко в доме детишкам всегда имелось, но ныне, как на горе, черная нетель осталась яловой. В прошлое воскресенье на базар ходили, да за корову с теленком очень уж дорого просят. А гнедую с лысиной кобылу продали в тот год, когда Сарсенбай поехал в Джамбул учиться. В институте он... Помилуй бог, что за учение? Каждый месяц посылаем деньги, а ему все мало и мало...
Я поднялся. Босоногая орава тоже вскочила и выкатилась за порог.
― Уже пошел, аке? А то посидел бы еще, чайку попил. Торопишься? Ну, что ж, иди, милый, да будет светлым твой путь. Спасибо, что зашел. Пусть беды и горе стороной тебя обходят, мой жеребенок.
Я поклонился старушке и вышел. Босоногая гвардия проводила меня до ворот и отстала.
6
Отец Альдижана ― человек высокий, худощавый и прямой, как палка. Он ― рыжеволос и смешлив, в уголках его губ постоянно подрагивает улыбка. Женился когда-то на девушке из нашего же рода. И потому весь аул считает его своим зятем. Ему перевалило уже за восемьдесят, в теле его живет постоянная и неотвязная старческая дрожь. Любил, значит, водочку, шутят аул-чане, вот теперь и дрожат руки. Старик в долгу не остается, и многие, зная его острый, как бритва, язык, остерегаются шутить с ним.
― Э-э, старый холостяк, явился? И правильно ― не женись, гуляй себе да гуляй.
Шутит старик, бодрится, но я вижу, как сильно постарел он за те годы, что я не видел его. Глубокие морщины, беспорядочно переплетаясь, так избороздили лицо, что не осталось на нем и клочка ровного, не тронутого знаком старости.
― Посмотри, Калау, на своего друга,― старик кивает на Альдижана,― он ведь глаз к нам, к старикам, годами не кажет. А работу его не пойму. Так, без денег он, что ли, работает? До сих пор копейки от него не видел.
Альдижан, улыбаясь, подмигнул мне. Понимаю, не спорь, дескать, старик ворчит для порядка, а на самом деле он доволен сыном и гордится его работой. Он и сейчас затеял этот разговор умышленно, чтобы еще раз, к слову как бы, подчеркнуть, какой важный пост занимает его Альдижан.
― Уж лучше, как Шакен... Пасет овец, пища его проста ― хлеб да вода, хотя живет в достатке. А этот? Пригласит в гости, ухлопает столько денег, сколько мы и за год не изведем, а зачем? Кому нужна такая роскошь? Вот приехал, а зачем приехал, знаешь? Барана просит... живого, говорит, дай, со всеми потрохами. Вот, разбойник... Нет уж, пригласил гостей ― сам и крутись, ищи, чем угостить...
Он взглянул на меня и, как минуту назад Альдижан, подмигнул. В глазах его, бесконечно добрых, поблескивали слезинки гордости ― вот, мол, какой у меня сын....
― Когда же думаешь вернуться в аул насовсем? Ваше время, джигиты, настало, вам, ученым, как говорится, и карты в руки. А то сидят тут у нас всякие... Воля аллаха, что ли, не знаю, но в нашем колхозе, что ни год, то новый председатель...
Хитрит старый Калдыбай, не говорит прямо, но и так понятно, что ему страсть как хочется увидеть своего сына председателем. Наверное, старик припомнил наше давнее хвастовство, когда мы с Альдижаном, поступив в институт, перед всем честным народом заявили, что учиться будем на руководящих работников... Не зная, что сказать старику в ответ на закинутую им удочку, я, пожав плечами, взглянул на Альдижана.
― Коке!― Альдижан улыбнулся отцу.― Что-то ты не то говоришь...
― Какой же ты сын Калдыбая, если трусишь и назад пятишься. Что я сказал? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом...
― Ладно, генерал, сидел бы себе, не морочил детям голову, ― вмешалась в беседу старая мать Альдижана. ― Каждому свое на роду написано... О здоровье лучше скажи. Было бы здоровье...
― Эй, сыночек Калдыкена, повернись ко мне, ― глаза старика смеялись. ― Помни, батыр, это совсем неплохо быть председателем.
― Голодной курице просо снится,― старушка сердито взглянула на мужа.― Нам ли с тобой взрослым детям дорогу указывать, они ее сами выберут. А ты сиди себе спокойно...
― Э-эй, старуха, что ты знаешь в жизни, много ли в ней понимаешь, чтобы учить меня?
Из дома Альдижана вышел я с легким сердцем, в хорошем настроении. Не успел и двух шагов пройти, как столкнулся лицом к лицу с Айжан. Белый платок повязан до бровей, на плечо тяпка вскинута ― видно, моя одноклассница в поле шла, на работу.
― Никак Калау?
― Работа не волк ― в лес не убежит, так? До обеда прохлаждаешься, подружка?
Я взял ее ладони в свои, склонился. Пожатие жестких, как колючки, пальцев Айжан было крепким. От рук пахнуло сладковатым запахом крема.
― Ой! Шустрый парень! Вот у самого пойдут дети, тогда я на тебя погляжу. Встретила товарища, называется... Жду от него слово привета, а он упрекает...
― А что же мне остается делать?― я печально, смеясь одними глазами, вздохнул.― Бросила ты меня, с другим судьбу связала.
― Куда смотрел раньше? Десять лет по одной дорожке ходили. Молчал...
― Влюбленный не словами объясняется, взглядом.
― Долго объяснялся, парень... А я не согласна в старых девах сидеть, тебя ожидаючи...
― Как дела твои, Айжан! Как живешь?
― Как видишь... От солнца черной стала. Следить за собой некогда, все лето на свекле крутимся. И дома головы от забот не поднять. Одна радость ― вспомнить беззаботные денечки, что ушли и не вернутся больше. Где они, Калау?
Изменилась Айжан... И ее не пощадили годы. От излишней полноты, наверное, и ростом ниже стала. Исчез с лица, казавшийся когда-то неистребимым, румянец. А от уголков глаз уже потянулись тонкие лучики морщинок. Неизменными остались только глаза, в них и сейчас, как в далекие годы детства, плескался темный и живой огонь...
― А муж где работает?
― Тракторист он. Неделями не вижу его, днюет и ночует на полевом стане.
― Вечерком приходи к нам.
― Ах, Калау... Или ты думаешь ― детство еще не прошло?
― Посидим, вспомним... Она лукаво сощурилась.
― Зачем мечтать попусту?
― Ух, чертова девчонка! До сих пор кокетством не переболела.
― Не знаю... Все равно все прошло. Уважать друг друга ― вот что нам осталось. Не так ли?
― Детишек-то у тебя много?
― Все мои... Не волнуйся, далеко от тебя не ушла. Женишься ― обгонишь.
― Другие девушки... Как дела у них?
― У всех у нас одни дела. Все вышли замуж, все работают в поле. Такого, чему бы ты мог позавидовать, нету.
― Как нету? А молодость... Ты посмотри на себя ― совсем девчонка.
― Дай тебе бог настроения...
― Я правду говорю...
― Ты не задерживай меня, Калау... Извини, но спешу. Домой-то забежала только на минутку, маленького покормить. Бригадир, наверное, уже ругается. Еще встретимся...
― Ну, что ж, доброго пути!
― До свидания! Кланяйся апе, пожелай ей здоровья... Она ушла... Я долго смотрел ей вслед. Детство мое, как нелегки с тобой встречи...
7
Вечером я решил полить клевер. Сколько помню себя, воды аулу всегда не хватало. Особенно в это время, когда в самом разгаре полевые работы, когда вся вода, до последней капли, идет на колхозные плантации. Вот почему пытаться полить огород днем ― пустая затея. Хочешь добыть воду ― вооружайся с вечера кетменем и дежурь всю ночь, да ног не жалей, да смотри в оба. Все может случиться. Либо сильное течение размоет твою запруду ― а такое не раз бывало, либо соседи из «Бирлика» повернут воду к себе. Что им терять? Вода течет, а они лежат себе спокойненько в шалаше и в ус не дуют, им дела нет до нужд того, кто живет пятидесятью километрами ниже головы арыка... Одно хорошо ― наш огород легко поливать. Направил воду сверху, а дальше она сама дойдет, ничто на пути не мешает ей.
В глубине воды густо светятся живыми огоньками отраженные звезды. Вода спокойна, и звезды в ней, тихие и безмятежные, как спящие дети, не шелохнутся, они часами могут стоять в неподвижности, охваченные дремой, если только чья-нибудь рука не швырнет камешки в воду и не нарушит плавного течения ее. Тогда звезды проснутся, всполошатся и кинутся друг к другу, удивленные тем, что их так грубо разбудили.
Не знаю почему, но мне эта ночь на земле и звезды, отраженные в тихо бегущей воде, напомнили вдруг о том, что случилось сегодня вечером. Готовясь к поливу, я очищал кетмень от ржавчины.
― Ага!
Я поднял голову. Передо мной стояла маленькая девочка в белом платьице. Впрочем, маленькой она показалась мне лишь в первое мгновение, когда я еще не успел всмотреться в ее лицо.
― Ага!― девочка порывисто бросилась ко мне, обняла мою шею руками и всхлипнула.― Нет нашей Асылтай, ага!
― Ох ты, милая!― мать, она стояла рядом, смахнула с ресниц слезинки.― Это сестренка Асылтай, Ка-лау... Она знает тебя, вот и жалуется, как родному на судьбу.
― Нет Асылтай, нет вашей подруги.
Уже не тихие слезы, а горькие рыдания сотрясали девочку. Я обнял ее и растерянно оглянулся на мать, не зная, чем и как утешить неожиданную гостью.
― Успокойся, милая,-я с трудом находил нужные слова. ― Не плачь... Такому горю слезами не поможешь.
― Вы... вы получали от нее письма?
― Нет, не получал.
― Она писала... Она много писала, но, видно, ни одного не отправила.
― Хорошая у тебя была сестра, добрая.
― Она много говорила о вас, вспоминала часто. Я знаю, что она...
― Девочка моя, ты уже большая... Не плачь, крепись.
― Она так ждала вас.
― Как зовут тебя?
― Жанат.
― Не плачь, Жанат... Трудно, а ты не плачь. Не надо так убиваться.
― Я не буду, я сейчас перестану плакать. А вы, агай, вы думали... о ней?
― Конечно... Разве могу я забыть своих друзей, тех, с кем вместе учился?
― У нас дома висит ваша большая фотография, и вы на ней такой же, как сейчас.
― Фотография? Та, где мы вместе с Асылтай?
― Нет, вы один... Смотрите вдаль, думаете о чем-то.
― В десятом классе мы были.
― Сестра по утрам, собираясь на работу, всегда смотрела на вас. Расчесывает волосы и смотрит, смотрит...
Только тут я заметил, что Жанат очень похожа на свою сестру. И взгляд такой же!
― В каком классе учишься, Жанат?
― Десятый заканчиваю... У нас скоро выпускной вечер. Вы... вы придете к нам на вечер? Как обрадовалась бы мама...
― Хорошо. Если еще не уеду, приду.
― Обязательно приходите. Ладно?
― Ладно, Жанат. Но ты не убивайся так, обещаешь?
― Хорошо, ага, я постараюсь. А дом наш на старом месте. Вы приходите... А я... пойду.
― Беги... Маме кланяйся. Спасибо, что зашла, Жанат.
Она, опустив голову, быстро выскользнула на улицу. В сгущающихся сумерках белым крылом мелькнуло и пропало ее платьице.
― Обязательно сходи к ним, ― сказала мать. ― Тяжелое горе у них. Боже, слепа судьба, нашла с кем справиться... Жанат ― младшенькая, последняя радость. Выросла, настоящая девушка...
Вот о чем напомнила мне тихо плывущая над землей ночь.
Было тихо, но вот где-то завели свою нескончаемую песенку уйкибезер1. Тяжело плеснулась в воде рыба. В каждом звуке, в каждом шорохе чувствовалась смутная тревога, а запах мяты, казалось, только усиливал ее.
Всходила, тяжело, с трудом отталкиваясь от темно-черной земли, неполная луна и зависала над горизонтом багрово-желтым ломтиком арбуза.
Дрогнуло под ногами, а впереди, раздвинув темноту, пролился щедрый неожиданный свет. Это проходил через нашу станцию пассажирский поезд. Легкий гул его слышался совсем рядом. Чиркнула по небу и, как вспыхнувшая, но не разгоревшаяся спичка, скатилась в черноту звезда. Дохнуло в лицо влажной свежестью, и я почувствовал, что начинаю мерзнуть...
Поднялся с камня, вскинул кетмень на плечо, намереваясь по арычку отправиться домой. Перехватчиков воды видно не было, да если и перекроют ― пусть, я уверен, что клевер наш залит порядочно.
Мягко и мелодично прозвенела в тишине уздечка, а вслед за ней расслышал я твердый топот лошади, уверенно ступающей по пыльной дороге. Пыль скрадывала звук, делая его глухим и коротким. Минуту спустя показался во тьме верховой. Наверное, он еще издалека заметил огонек моей папиросы и, подъехав ближе, придержал коня, хрипло крикнул:
― Эй, кто там? Э-эй!
Я молчал. По голосу узнал Рахтая. Мальчишкой он боялся темноты, сходить вечером к соседям за ситом было для него сущим наказанием. Если матери все же удавалось вытолкать его, то шел Рахтай обычно, разговаривая сам с собой или распевая песню. Таким хитрым способом мальчишка гнал из сердца страх, но страх, конечно, и не думал уходить. Даже кошка, метнувшись через дорогу, приводила Рахтая в ужас, и он с душераздирающим криком: «Ойбой! Караул, спасите!»― бросался обратно к дому. Таким он был в детстве, а теперь женат, глава семьи, потихоньку ведет свое хозяйство.
Встревоженный моим упорным молчанием, Рахтай повторил вопрос:
― Кто такой? Стрелять буду!
Крик его всполошил собак, они громко, угрожающе залаяли.
Я ― ни звука. Замолчал и он. Конь его стоял спокойно, только изредка тихо всхрапывал.
― Молчишь, да? Тогда поберегись, браток... В свете луны матово блеснуло дуло ружья. Рахтай подергивал поводьями, но в то же время сдерживал коня, осаживая его на месте.
И вдруг грянул выстрел, горсть огня резанула ночное небо, дробь со свистом прошла стороной. Стрелял не Рахтай, выстрел ударил со стороны соседних огородов. Шуганули пацанов, подумал я...
А что же Рахтай? С годами, как видно, он не стал храбрее. Развернув коня, бросил его в галоп и умчался, а я кричал, звал его по имени, но куда там ― исчез Рахтай, только яростный лай потревоженных собак вспыхивал то здесь, то там, нарушая тишину и покой спящего аула.
Подойдя к дому, я увидел, что огород мой залит на славу. Но на дальнем конце вода все же пробила земля― ное перекрытие ― победно и весело, одолев сопротивление, звенела струя.
Пожалуй, хватит заливать. Я повернул воду на сосед― ний огород и с легким приятным чувством исполненной работы ушел в дом. Собирался лечь, а потом почувство― вал, что сейчас еще не смогу уснуть, и присел у окна. Ка― кая-то птица, слетев с тополиной ветки, с минуту растерянно крутилась, натыкалась на деревья, и вдруг, резко и стремительно взмыв над землей, исчезла в темноте...
Прижимаясь к деревьям и белея в темноте рубахами, пробежала мимо нашего дома группа мальчишек. Улыбаясь, я проводил их взглядом. До самой зари не уснут озорники. Знакомо, все знакомо... И мы когда-то, разбившись на группы, играли в прятки... И мы когда-то, замирая, часами караулили у темных окон своих подружек...
8
Утром, собираясь встать, услышал., что соседский мальчишка просит у матери косу. Это что же, подумал я, сенокос начинается, что ли?
― Не знаю, где она? Лежит где-то... Когда надо, разве найдешь сразу...
― Тогда не ищите, апа, я в другом месте спрошу.
Я вышел, приглаживая на ходу взлохмаченные со сна волосы. Поманил мальчишку.
― А ну, дружище, пойди-ка сюда.
Пацан, сопя и потея облупленным носом, подошел, протянул, приветствуя, руку, ― Как тебя зовут?
― Кренкул.
― Э-э, так это ты и есть джигит Кренкул?
― Я, ага.
― Зачем же тебе коса?
― За сеном пойду.
― Не рано ли?
― Косить уже начали... Не знаю, может, пока только на силос.
― Вот как... А колхоз разрешает?
― Да, только там, где машины не пройдут,
― Подожди немного, вместе пойдем.
Веря и не веря мне, Кренкул в нерешительности переминался на месте.
― Ты пока ищи косу, а потом зайди за мной, ладно?
― Хорошо, ага.
Кренкул сдержал слово ― зашел. Лицо у него строгое и сосредоточенное. Я взглянул на косу, которую маленький крестьянин по-взрослому вскинул на плечо, и мне показалось, что я услышал сухой свист рассекающего воздух, на славу отбитого и отточенного жала и увидел, как, поникнув, с тихим шелестом ложится на сырую от росы землю молодая трава...
Мимо рощи, что манила к себе буйно сверкающей зеленью, мы с Кренкулом вышли к реке. Час ранний, у реки разлита накопленная за ночь прохлада. Трава еще молода, еще только начали твердеть ее зеленые, полные свежей молочной сочности, стебли. Коса без труда справится с такой травой, легко, взмах за взмахом, срежет ее и уложит в валки. Разумом я понимаю необходимость предстоящего дела, но сердце от мысли, что погибнет сейчас такая красота, щемит и щемит.
― Ага! ― Кренкул остановился. ― Если дальше пройдем, зря труд пропадет. Где ровно, где можно машиной косить, там все колхозное. А нам вот здесь можно...
С этими словами он, не мешкая, приступил к делу. Мал косарь, да удал, подумал я, ишь, как уверенно действует, а косой, как плеткой, играет и передвигается легко, в такт широким и плавным движениям рук. Я смотрел на него, и мои руки, вспоминая забытые ритмы, наливались тяжелой и жаркой силой.
Вверх по реке, километрах в двух от нас, работали колхозные сенозаготовители. В мощный и ровный гул транспорта вплеталась трескучая и бесконечная песня косилок. Иногда тракторист, сбрасывая газ, приглушал двигатель, и тогда слышнее становились смех и громкие веселые голоса, можно было даже разобрать, о чем переговариваются люди.
Мы с Кренкулом, двигаясь вдоль берега, тоже немало накосили. Глянул я в небо, а солнышко к зениту уже подкрадывается, обед, значит, скоро. Тоску по работе, которую когда-то так любил, я утолил и почувствовал, что с непривычки устал. Ладони, когда я разжал пальцы, словно огнем обожгло. Как дождевые пузыри, вскипели мозоли, к ним, налитым жидкостью, не дотронуться ― больно... Да и коса, утром казавшаяся легче перышка, стала тяжелой; каждый взмах давался мне сейчас с пре― великим трудом.
― Эгей, Кренкул, ― я махнул рукой, ― иди сюда...
― Что случилось, ага?
― Садись, отдохнем малость.
― Устали?
― А ты?
― Ничуть... Надо успеть обкосить здесь, чтобы к вечеру трава подсохла.
― Так, а потом?
― Вечером повезем на бричке сенозаготовителей.
― А ну-ка, покажи руки.
Как и ожидал я, ладони мальчишки были чисты, лишь желтели на них твердые, как кремень, сухие мозоли.
― А ваши? Я показал.
― Вот это да! ― Кренкул сочувственно покачал головой. ― Прямо как ножом порезано. Что будете делать?
― Заживет.
― Хотите скажу, как лечить? Надо приложить к ладоням пережеванный горький лист жантака. Быстро все засохнет.
― А ты, брат, закаленный.
― Да нет, ― он засмущался,― это у меня так, от разных работ.
― Каких же?
― Больше дома... Огород копаем, арыки делаем, поливаем... Весной я второе место занял.
― Ну?! В чем же?
― В школе, когда на огороде работали... Соревновались, кто больше вскопает.
― Кто же был первым?
― Бейсен из восьмого класса. У него, знаете, какие мускулы? Во-от такие... А вы в городе что делаете?
― Работаю.
― Что за работа?
― Люди в городе работают на заводах, на фабриках, а я ― в редакции...
― Это где критикуют? Когда нашего директора покритиковали, он ушел с работы.
― Редакция может и похвалить.
― Чабанов, да?
― Почему только чабанов?
― А огород у вас есть, скот имеете?
― Откуда же им взяться в городе?
― Э, не интересно... Так жить ― лентяем станешь... Я, например, если по-хозяйству не сделаю что-нибудь, читать не могу, не понимаю, что там написано. И спать хочется...
― Ну, а когда десятый класс закончишь, что дальше? Учиться не поедешь?
― Поеду, но потом все равно домой вернусь... Лучше нашего аула места на земле нет. Что хорошего на стороне жить?
Бесхитростный и чистый голос маленького сердца, так крепко привязанного к родному аулу, восхитил меня, заставил задуматься и взглянуть на себя как бы со стороны, взглянуть и спросить ― зачем я приехал? Что ищу здесь? Я словно наткнулся вдруг на невидимую стену, о существовании которой, отправляясь в путь, даже и не предполагал.
― Ага, ― Кренкул деловито поднялся, ― вы отдохните, а я пройду вот этот рядок... Если кто-нибудь явится, спрашивать разрешения не станет, сразу скосит.
Топот копыт, раздавшийся позади нас, заглушил голосок мальчишки. Верховой ― мужчина в картузе с прямым и широким, хорошо защищающим глаза от солнца козырьком, помахивая плеткой, быстро приближался к нам.
― Это бригадир, ага...
А тот уже подъехал. Я отвернулся, заслонился от него газетой.
― Бог в помощь, друзья.,.
Он крепко потискал Кренкулу руку, искоса взглянул на меня.
― А это кто там за газетой?
― Дядя Калау...
― Какой Калау? Чей?
Он спрыгнул с коня, подошел ко мне и, узнав, разулыбался. Обнял так, что кости мои заныли.
― Так-так-так... А я-то думаю, отчего это план не выполняется? Оказывается, вон кто сено из-под рук уводит... Давно ли приехал, батыр?
Это мой школьный товарищ Орынбасар. Мы одногодки. С ним вместе в институт поступали, но Орынбасару не повезло в тот год, не прошел он по конкурсу.
― Как это понять, батыр? Приехал и ― ни привета, ни поклона... Забрался в уголок и сено воруешь...
― А я-то думал ― помогаю вам...
― Разрази тебя гром, почему не сообщил о приезде?
Я улыбаюсь, я понимаю Орынбасара. Так и только так должен говорить хозяйственный, солидный и степенный человек, знающий цену и себе и людям.
― Как здоровье, Калау? Как мать? Здорова ли? И недалеко живем, а забежать, проведать, веришь, нет времени. Все дела, дела, кружишься, как белка в колесе... Ты вот скажи ― мать одна долго еще будет жить?
― Да что-то не получается...
― Э, брось... Как это не получается? Хорошо ли одному, брат?
Взглянув на меня, он виновато улыбнулся, умолк и, притянув к себе, снова обнял. Извини, дескать, если не то сказал. Чтобы как-то разрядить затянувшуюся паузу и смягчить упрек, Орынбасар пошутил:
― Было бы здоровье, а девушек ― ой-ей, сколько...
― Для женитьбы и одной хватит,― я тоже улыбнулся, успокаивая Орынбасара.
― Ну, ладно, сам думай, батыр, сам...
― Трава еще не созрела, зачем косите?
― Самый раз на силос. С прошлого года его закладываем. Хорошее дело ― силос, зимой здорово выручает. Главное ― скот не теряет в весе. Корм ― и питательный и дешевый. Теперь с сенокосом до осени не валандаемся: еще две-три недели и все ― скот кормами обеспечен. Надо будет ― проведем второй укос, а нет ― на корм оставим под зимние пастбища...
― А на богаре трава... не пропадает?
― Молодец, глубоко копаешь... Да, на отдельных угодьях сено заготавливается как попало. Все-таки привыкли люди еще работать и жить по старинке. Сегодня на собрании будем как раз говорить об этом.
Мне понравилось, что Орынбасар и дело свое хорошо знает и душой за него болеет. А он продолжал:
― Неурядиц много... Силос ― только начало. Вообще-то пора нам все хозяйство на промышленную основу и научные рельсы ставить. Кормоцехи надо строить... Раньше как? Свалили траву, подсушили, сгребли в стога и все. Такой вот грубый корм и давали скоту. Но ведь каждый клок грубого сена измельчить можно и вкуснее его сделать. Долго мы присматриваемся да приглядываемся, не торопясь живем.
― Подтолкнуть надо...
― Да уж, поверь, не молчим, ― он вздохнул. ― Но даже то, что запланировано, с прохладцей да раскачкой порой делаем. Вот здесь, на этом месте как раз мост должны поставить. Будет мост, конечно, но когда? А проблем, ожидающих своего решения, много, и ты о них должен знать.
― Сейчас-то куда путь держишь?
― К косарям, внизу работают. Посмотрю, как у них дело идет, и скажу, чтобы вечером на собрание явились. Кстати, приходи и ты... После собрания ― концерт, артисты из района гостят у нас.
― Хорошо, я приду.
― Слушай, а давай-ка и сейчас со мной? Своими глазами посмотришь, как работают твои земляки. Эй, Кренкул, копни свое сено. Я, как бригадир, разрешаю тебе увезти его на любой свободной машине... Видел? ― Орынбасар повернулся ко мне.― Молодец парень! Как не похвалить такого...
9
Полевой стан косарей ― шестикрылая юрта, поставленная неподалеку от речки. У юрты, полукругом ― кровати, постели на них сложены аккуратно, чтобы меньше пылились ― свернуты. А хорошо, наверное, подумал я, спать на свежем воздухе. Звезды над головой, река бормочет, травы шумят...
Вечереет, но косари еще не вернулись с лугов. В большом, закопченном и прокаленном до глянца котле упаривается свежая баранина ― запах ее приятно щекочет ноздри, вызывая нестерпимый аппетит. Важно пыхтит и отдувается громадный самовар, дым мелкими кольцами выталкивается из трубы, кольца сливаются, и дым уже голубым столбом прямо тянется к небу. Тихо вокруг... Только ветерок с легким шелестом скользит по верху молодого камыша, да река плещется...
― Странный вы человек... Сидите и все молчите. Рассказали бы о чем-нибудь, занялись бы чем, пока ребята придут.
Стараясь не улыбнуться, я слушаю повара, совсем девчонку, только в прошлом году окончившую десятый класс. Очень смешливая, подвижная и на редкость откровенная девушка. Два года поработаю, заявила она, и привет, пусть другие поварят... Имя девушки ― Капуза.
― Воды в рот набрали, да? ― она смеется. ― Ну ладно, молчите, если вам так нравится. А у меня дела. Воды вот принести надо.
Она схватила ведра и, напевая, направилась к реке.
― Капуза ,― я остановил ее, ― давайте я схожу... Помогу вам.
― Давно бы так! Теперь видно джигита. А то сидите, молчите, как хан.
Она охотно отдала мне ведра и сама, потряхивая косичками, пошла рядом.
― Вы всегда такой... скрытный? Не к лицу такая высокомерность.
― О вас думаю, ― я улыбнулся. ― Что за девушка, думаю, откуда она, такая откровенная?
― А что тут удивительного?
― Вы же меня впервые видите... и вообще...
― А! ― она засмеялась. ― Не беспокойтесь, я в вас не стану влюбляться.
― И все же знаете... мысли кое-какие...
― Боже упаси! А вы... вы коварный молчун. ― Она встала передо мной и посмотрела прямо в глаза.
― Так?
― Нет, Капуза, не так.
― Не лгите... Ваши глаза вас выдают. Мужчин без черных мыслей не бывает.
― Возможно...
― А в том, что я смеюсь и шутить люблю, ничего плохого нет. Разве не так?
― Все правильно, но...
― Хотите сказать, что люди разные, что кое-кто не поймет шутки, или поймет, да не так? Ну и пусть... Пусть другие так понимают, а вам думать так ― стыдно...
― Почему?
― Сами знаете ― почему...
Она отвернулась, делая вид, что очень обиделась. Вертела в пальцах травинку, молчала.
― Вы не обижайтесь, Капуза... Иногда безалаберная шутка может в неловкое положение человека поставить.
― А вам-то не все равно, что ли? ― она улыбнулась и было в ее улыбке что-то лукавое и торжествующее.
― Да, конечно, мне все равно.
Я крепко разозлился на самого себя за то, что позволил втянуть себя в этот бестолковый разговор. Черт меня дернул полезть с советами! Пусть с обрыва прыгает, если нравится... И все же непосредственность девушки нравилась мне, хотя и настораживала немного.
― Вы обиделись, вам не понравилось мое поведение?
― Взрослая девушка вольна в своих словах и поступках.
Она озорно тряхнула головой, ее черные косы, взлетев, коснулись моего лица, и я уловил еле слышный запах недорогих духов. Девушка, лукаво взглядывая, потянула из моих рук ведра, те звякнули, и лупоглазые лягушки, напуганные звоном, дружным прыжком сиганули с невысокого берега в воду.
― Вот вам, ― она, зачерпнув воды, подала ведро. ― Одно понесете вы.
― Могу понести оба.
― Еще нажалуетесь, что воду на вас возила.
― Если надо, я и дров наколю.
― Что с вами? В одну минуту так переменились.
― Ну, вот... Сказал правду ― и виноват.
И я, опять ругнул себя на свою легкомысленность, за то, что повел себя с ней, как семнадцатилетний мальчик. Но чем больше я ругал себя, тем больше мне хотелось нравиться этой озорной девчонке.
― А вон и дядя Дятел едет.
― Где? Какой дятел?
Я взглянул в сторожу, куда, посмеиваясь, кивнула девушка, и с трудом разглядел Орынбасара, погонявшего коня по старой дорожке, петляющей в зарослях камыша. Его гнедой шел неторопливо, и лысина жеребца светилась в густых сумерках, как слабый свет фонаря.
― Вы почему его так зовете?
― А чего он по утрам спать не дает? Стучит по койке, за уши тянет.
― Эй, Калау, батыр, не скучаешь?
― Ваш товарищ, агай, лентяем оказался. Как вы уехали, он и одной травинки не сорвал. Сидел да молчал.
― Ай-яй, молчал? Обидел, значит, нашу девушку. Давай, Капуза, придумаем ему наказание.
― Штраф ему, агай... Пусть песню споет нам. Сегодня вечером... Вместе с артистами.
― Не будет их. В соседнем колхозе одно отделение план выполнило, вот артистов и направили к ним.
― А мы? Напрасно, выходит, ждали?
― Ничего... Здесь сейчас вся молодежь фермы соберется ― вот и организуйте сами концерт. Но помните ― с зарей подниму на работу. Время сейчас такое. Так что повеселитесь немного и спать, спать... Калау, домой идешь?
― Не знаю...
― Если идешь, давай со мной. На той стороне машина ждет, людей на собрание доставит. А то ― оставайся с ребятами, повеселись, отдохни.
― Альдижан не подойдет? Не видал?
― Нет. Но это дело поправимое. Позовем... Вон за тем бугорком дом Альдижана. Правда, он уезжать собрался.
― Оставьте нам вашего Калау, агай, ― вмешалась Капуза.― О городе нам расскажет, о новостях городских.
― Как пожелает гость, так и будет. Правда, батыр, что тебе торопиться? Утром встретимся... Любил же в детстве под открытым небом спать ― вот и вспомнишь... Ну, я поехал.― Он направил коня к реке, а я проводил его взглядом, раздумывая, правильно ли поступил, что остался, или нет.
Вскоре собралась на стан молодежь. На лицах и тени усталости нет, приоделись, как на праздник. Парни сверкают белоснежными сорочками. Девушки, тоже принаряженные, посматривают на парней с достоинством, прекрасно понимая, что без них вечер этот утратит и свежесть свою и прелесть.
Приглашая на танец, зазвенела, запела мандолина. В двух шагах от меня и чуть особняком от подружек стояла, задумчиво покусывая травинку, девушка. Я решительно подошел к ней и пригласил на танец. Она растерялась, жаркий румянец охватил ее лицо. Мы закружились в вальсе.
― Как зовут вас?
― Зауре.
― Доярка?
― Да... Откуда знаете?
― Земля слухом полнится, ― зачем-то обронил я.
― Наверное, Жанат сказала.
― Какая Жанат?
― Сестра Асылтай.
― Нет-нет, с другой стороны слухи дошли.
― А нам о вашем приезде Жанат сообщила. Вы еще не были у них?
― Пока не смог... Собираюсь.
― Вы сходите, они так ждут вас.
Сердце мое сжалось, и я не сразу понял, что заставило его сжаться ― нежность или боль... Или ощущение вины перед Жанат, которой обещал прийти и не пришел. А она ждет, и вместе с нею ждет моего прихода Асылтай...
На мое счастье, музыкант устал и вальс прервали. Провожая Зауре к подружкам, я услышал сердитый голосок Капузы:
― Говорю же ― сними эту сорочку. И надень свежую.
Я искоса взглянул ― Капуза тянет за руку здоровенного высокого парня, а тот упирается и бубнит недовольно:
― Зачем? Тебе я и в этой рубашке нравлюсь, а другие меня не интересуют.
― Лучше не спорь. Тут одна минута всего. Наклонись-ка...
Она что-то шепнула ему на ухо, и парень тут же сник,
― Ух, настырная! Не успокоишься, пока своего не добьешься. Пойдем, ладно...
Они пошли к юрте, а я вдруг почувствовал себя одиноким и лишним... Захотелось немедленно уйти отсюда. Но... куда? На память пришли слова Орынбасара: «Вон за тем бугорком дом Альдижана...» Это ― близко, два-три километра, от силы. Что ж, пожалуй... У него и переночую. Час, правда, поздний, но школьный товарищ поймет меня и не осудит.
Оглядываясь, словно совершая что-то недозволенное, нырнул в темноту. Никто не остановил меня, никто не окликнул, молодым людям не было до меня никакого дела,:и можно было уйти, не таясь, не вжимая голову в плечи, но я, сам не зная почему, продолжал отступать в темноту как-то боком, поминутно оглядываясь. Кончилось тем, что я сбился с тропинки и налетел на парочку, тихо-мирно беседующую вдали от товарищей.
― Эй, ты что, слепой?!
В голосе парня звучала угроза.
― Извини, браток... Темно.
Я не испугался, конечно, только огорчился, что так вот, сослепу, помешал им. Девушка потянула парня за руку, заставила сесть. Парень сел, он, наверное, все еще смотрел мне вслед ― я спиной чувствовал его взгляд.
Уже не оглядываясь и не разбирая дороги, напрямик пошел к дому Альдижана. А позади, на полевом стане, вновь зазвучала мандолина. Грустная и нежная мелодия вальса то, казалось, поднималась к темно-синему звездному небу, то, приглушенная, опускалась вниз и стлалась по травам, скользила над землей. Она будто удерживала меня, удивленная тем, что кто-то уходит от нее в ночь, в темноту...
Две красные точки вспыхнули передо мной. Заржала лошадь. Я понял, что это ее глаза встретили меня настороженным красным огнем.
Взлетел, как из-за пазухи вырвался, фазан, рванулся вверх и в сторону. Э, друг Калау, невесело подумал я, даже птицам от тебя покоя нету.
Неожиданно темень словно бы расступилась, и я увидел перед собой, всего в нескольких шагах, матовое серебро огромного зеркала. Световой эффект был настолько внезапен, что я остановился, боясь наступить на хрупкое стекло, но уже в следующее мгновение понял, что это река светилась в ночи мягкой и ласковой улыбкой.
Вскинулся ветерок, пощипывая листья камыша, заскользил над рекой. Камыш тихо покачивался, готовый в любую минуту, если бы мне вздумалось вдруг бежать, припустить за мной в погоню. В глубине его зарослей проголосила навзрыд, словно проплакала, выпь. Потревоженная коротким криком, ответила выпи птица Мура-тали. Недовольные чем-то, еще оживленнее, еще крикливее, запереговаривались лягушки.
Случайно я набрел на тропинку, она резко нырнула в овраг, а потом, петляя по склону, вновь вывела меня наверх, прямо к дому Альдижана. Окошко светилось, но пока я приблизился, свет, мигнув, погас. Стало темно и тихо, даже собака и та не подавала голоса. Опасаясь, что пес незаметно подкрадется в темноте, я крикнул, привлекая внимание хозяев. Постоял, но ничто, кроме кроме крика лягушек, не нарушало глухого молчания. Я подошел еще ближе.
― Эй, есть кто дома?
Молчание... Во дворе на привязи ― корова. Тяжело вздыхая, как будто ей не хватает воздуха, поднялась с места.
― Альдижан, дома ты?
Ни звука в ответ. По стеклам темных квадратов окон мутно разливается слабый свет только что поднявшейся луны.
― Альдижан, это я, Калау! Боишься ты, что ли?
Резко зазвенел дверной крюк, на пороге выросла фигура женщины. Молча вглядывается, пытаясь узнать, кого это бог послал в такой поздний час.
― Чабан не чабан, если он не имеет собаки, ― я двинулся к дому.― Здравствуйте!
― Соседи сегодня переехали, и собака с ними ушла, ― женщина на пороге тревожно шевельнулась.― А вы кто же будете?
― Альдижан здесь живет?
― Жил здесь... Сегодня днем переехали в город. Кто будете ему?
― Товарищ.
― Что же вы ночью ходите?
― Да, понимаете, только что от косарей, на полевом стане у них был.
― Эй, кто там?― раздался в глубине дома мужской голос.― Пусть войдет!
― Заходите! ― женщина пошла вперед. ― В доме и поговорим.
Она тотчас включила свет. Навстречу мне шагнул молодой парень. Глаза у него глубоко запали, лицо бледное, без единой кровинки, я пожал ему слабую руку, хозяйке только поклонился.
― Э-э, так вот вы кто!― она, готовя место для гостя, взглянула на меня.― Видела ваши фотографии в альбоме Альдижана. Во неудача какая... Разминулись с другом... Днем бы раньше.
― А кто же вы?-я переступил с ноги на ногу.― Простите за вторжение...
Муж повернулся и молча прошел в угол, тяжело
опустился на разостланное одеяло. Мелькнула мысль, что я заявился в дом в минуту семейной размолвки. На мой вопрос, который я обращал к мужу, ответила жена:
― Мы животноводы из колхоза «Актюбе». За скотом ходили в горах, там же и жили постоянно. А в этом году приняли больных коров и не смогли уйти в горы...
Женщина держалась со мной приветливо, хотя лицо ее оставалось все время печальным, даже скорбным. Я еще раз, собираясь уйти, извинился.
― Куда же вы на ночь глядя? Оставайтесь ночевать. Я в нерешительности потоптался раздумывая. Что-то в этом доме не так... Но и возвращаться на стан ― тоже не с руки. Ладно, решил я, останусь, прикорну где-нибудь в уголке и скоротаю ночь.
― О еде, прошу вас, не беспокойтесь...
― Что вы! Располагайтесь, пейте чай.
― Спасибо... кусочка хлеба будет довольно. Женщина развернула дастархан. Я прилег к нему и еще раз обвел взглядом комнату. На маленькой кроватке, сладко посапывая, спали двое младенцев... Тихо в доме, до странности тихо.
Разговор не клеился. Хозяин, глядя в пол, упорно молчал, женщина, наверное, поняла, что муж никак не намерен вести с ночным гостем беседу, да и сама она, я видел, чувствовала себя неловко. В конце концов, она поднялась и вышла в другую комнату стелить мне на ночь.
― Постель готова.
― Спасибо! ― я поспешно поднялся.
Уснуть сразу не смог. Лежал, поглядывая в открытое окно, а по комнате гулял сквознячок. У порога подал голос кузнечик, свистнул дважды, словно точильным камнем по косе провел, и замолк. Что-то черное и стремительное крест-накрест пересекло светлый квадрат окна, с силой ударилось в стекло и шарахнулось прочь, подальше в спасительную темноту. Летучая мышь, наверное, кружит, подумал я.
― Кажется, стучат? Ты слышишь?.. И в окно кто-то заглянул!
Встревоженный голос хозяина ясно и четко прозвучал в тишине. Я невольно затаил дыхание.
― Ночные жуки в стекло бьются Ну кто придет в такое время? Успокойся...
«Что за люди странные, ― опять подумал я, ― что их так страшит?» Вспомнил подозрительный взгляд хозяина, каким он ощупал меня, когда я вошел в комнату. Здесь какая-то тайна, иначе чего и кого бояться дома, у собственного очага...
― Кто придет, говоришь? ― мужчина задыхался, с трудом выталкивая из себя слова. ― Сейчас нам так ― спи, а один глаз открытым держи.
Напрасно я пришел, мелькнула мысль, и уже совсем напрасно остался...
― Отдохни, Жаркынбай, лежи спокойнее.
― В горле пересохло.
― Принести воды?
― Сердце горит, вода не поможет.
― Перестань, не убивайся так... Что бы ни случилось, надо все перенести, все вытерпеть, а мне, думаешь, легко?
Слышно было, как она заплакала.
― Вина моя, не твоя... Легко вот так, без вины, плакать.
― Жаркын, ты не был таким... злым, Жаркьш... Что происходит с тобой?
Жаркынбай тяжело, со стоном, как будто его с размаху ударили в бок, вздохнул. Как ответный вздох, про звучало приглушенное мычание привязанной возле двери коровы.
Утром, когда я поднялся, хозяина уже не было, ушел куда-то. Двое малышей тихо играли у порога. Женщина, как после тяжелой болезни, побледнела, осунулась. Разговаривая со мной, не поднимала глаз.
― Хорошо ли отдыхали?
― Прекрасно отдохнул... Спасибо вам!
― Добра вам, джигит, в дороге и радости.
― И вам тоже, ― мне было нестерпимо жаль бедную женщину. ― У вас, верно, случилось что-то?
― Случилось, милый, случилось... Горе расхлебываем. Весной трудно было, он и не устоял за семенной пшеницей... Украл, в общем.
― Что делать? Надо надеяться... Может быть, простят.
― Что прощение? Дурная слава хуже всякого наказания. Жили мы хорошо, а теперь все отвернулись от нас.
Она с трудом удерживала слезы. Я не стал мучить расспросами и без того издерганную женщину, попрощался и ушел, унося в душе тяжкое ощущение тоски и боли.
10
Прошло еще несколько дней, и я засобирался в обратную дорогу. Объявил матери, что завтра еду, пора уже... Она опустила голову, но сдержалась, не заплакала.
Прямо, как назло, едва ли не накануне отъезда, разболелся у меня глаз ― словно колючка, маленькая, не больше зернышка проса, впилась.
― Посидел бы дома, ― мать качала головой. ― Одень малахай, воткни в него иголку с зеленой ниткой ― и все пройдет, как рукой снимет.
― Ну вот еще, маленький я, что ли?
― Стыдишься? А зря. Средство народное, дедами и прадедами проверенное.
― Нет, уволь... Я уж лучше горячий компресс сделаю... Пройдет.
Мать не стала спорить, только вздохнула и подсела ко мне, положила на мое колено сухую маленькую ладошку. Я понимаю, ей хочется на прощание поговорить, излить душу, выложить все, что накопилось в ней долгими-долгими ночами раздумий.
― Маленький мой, ― ее рука, как в детстве, лаская, скользнула по моей голове. ― Ты уже совсем взрослый и сам знаешь, что тебе надо делать. А я... Я, мой баловник, как та невеста, у которой и приданое уже готово, дни свои в ожидании провожу. Силы оставляют меня...
Мать примолкла, молчал, опустив голову, и я. Я видел, что ей жалко меня, но и свое, наболевшее, не высказать, хотя бы намеком, она не могла.
― Люди правду говорят: где двое ― там и богатство... Мой совет тебе и мое желание ты знаешь...
Она поднялась и ушла в другую комнату. Мама, мама... Ты и сейчас не решилась потребовать от меня определенного неуклончивого ответа. Что я могу сказать тебе, если сам ничего не знаю, не ведаю.
Вечерело. Солнце уходило за горизонт. Я сидел на пороге и читал книгу, но... больше, пожалуй, любовался закатом. Взметывая босыми ногами пыль, ворвалась в открытые ворота ватага мальчишек.
― Ага!― закричал один из них.― Сегодня «Тарзан» будет... Кино. Ух, как здорово прыгает по деревьям. И язык всех зверей знает.
― Что за Тарзан?
― Обыкновенный... Со львами дерется, всех побеждает. А как бегает, вы бы посмотрели. Даже самолет обгоняет.
Раздувая ноздри и захлебываясь словами, мальчишка спешил выложить мне все чудеса о Тарзане. Я улыбался, но не говорил ему, что сам давным-давно когда-то смотрел этот фильм. А потом ночами мы кричали по-тарзаньи...
― Ага, пойдем, а?
― Ну, что ж, пойдем, пожалуй.
Подняв на дороге пыль, ватага умчалась дальше, чтобы еще кое-кому рассказать о Тарзане. А я подумал, что в наше время кино было как праздник. Перед клубом запускался движок. Веселым частым перестуком он поднимал на ноги весь аул и, в первую очередь, конечно же, нас, ребятишек. Киномеханик, русский парень, хорошо владевший казахским языком, выстраивал нас и давал задание:
― Вот что, пацаны... Кино начну, когда все соберутся. Шагом марш!
И мы вихрем срывались с места, летели от дома к дому. О, как мы старались отличиться в глазах киномеханика и заслужить его расположение, с какой страстью, до хрипоты, оспаривали друг у друга каждый дом, в который принесли весть о кино.
У клуба ― до начала сеанса оставалось несколько минут ― я лицом к лицу столкнулся с Жанат. В белой кофточке и коричневой юбке, стройная и ясноглазая, она, улыбаясь, стояла передо мной, и в черных волосах ее мягким трогательным светом подрагивал розовый бантик. В веселой и жизнерадостной девушке трудно было узнать ту девочку, которая несколько дней назад так неутешно и горько плакала у меня на плече. Я взглянул на ее лицо и отчего-то смутился, дыхание мое зашлось, и я с трудом перевел его...
― Здравствуйте, Калау-ага... Вы так и не пришли. Я знала, что вы не придете к нам.
― Не придавай значения, Жанат. Просто не было времени.
― Сено косили? Мне Зауре сказала.
― Как здоровье мамы?
― Слава богу... Все вздыхает, как ваше имя услышит.
― А твои экзамены?
― Один остался. А как ваши дела?
― Завтра уезжаю.
― Завтра?! ― Она опустила глаза, и лицо ее заметно побледнело.― А что, разве нельзя немного задержаться?
― Я приеду еще.
― У вас на глазу ячмень.
― Да, проклятый, вчера выскочил.
― А я знаю, как вылечить. Вы завтра... каким автобусом поедете?
― Не знаю, ― я пожал плечами. ― Любым...
― Тогда поезжайте двенадцатичасовым. А я к тому времени придумаю, как ваш глаз вылечить.
Прохожие засматривались на нас, под их взглядами стоять было неприятно, я даже ежился, когда кто-нибудь из чрезмерно любопытных останавливался рядом.
― Договорились, Жанат... Еду двенадцатичасовым.
― Вот и хорошо... Всего доброго, Калау-ага. Ночью, как я ни старался, уснуть не мог, мысли, от которых раньше как-то удавалось освобождаться, этой ночью беспрепятственно овладели мной. Стояла перед глазами, печально вздыхая, мама. Успокоить ее, я знаю, может только одно... В своей бесконечной тревоге она не решается говорить со мной жестко и требовательно. Мне трудно смотреть в ее глаза, но что я могу поделать, что?
На автобусную остановку я пришел в двенадцатом часу. Остановка ― возле старой кошары. Знаменитое место... Здесь когда-то по особым случаям жизни собирались аулчане. Отсюда провожали на выпасы дойные гурты, здесь встречали их и здесь же мы, мальчишки, очень любили играть в альчики. Играли до самого вечера, до густых сумерек и считали себя счастливыми, если карманы наши были полны альчиков ― тогда мы не знали, что на свете есть и другое богатство и другое счастье.
Но зато было у нас это ― великое мальчишеское счастье... Помню один вечер. Я вернулся домой радостный. Еще бы ― карман мой отяжелел, каких только альчиков не было в нем. Я поймал лохматую козу, устроился у ее ног с котелком, зажав его коленями, и приступил к дойке. Тугие струйки молока звонко ударились о дно посудины, и в это мгновение кто-то теплым кулачком ткнул меня в шею. Оглянулся ― Асылтай стоит, улыбается.
― Давай подою.
― Не мешай.
― Угадай, что у меня в руках?
― Сказал ведь ― не мешай.
― Что, на архарову кульжу2 и смотреть не хочешь?
― Эй! Откуда взяла? Дай-ка сюда!
Отставив котелок в сторону, погнался за ней. Увертываясь от меня, девчонка звонко засмеялась:
― Ой, хвастунишка, оставь меня... Сама отдам. Тебе же принесла...
― Где нашла?
― У Атекея взяла... Для тебя.
Она протянула на ладошке тяжелую, словно литую из чугуна, саку. Я засунул ее в карман, дружески щелкнул Асылтай и снова принялся доить козу.
Время... Время... Теперь только воспоминания остались об Асылтай.
Скоро двенадцать. Я беспокойно оглядывался, сердце мое то замирало, то начинало сильно и часто биться. Подошел автобус, люди стали садиться. Нет, не придет, наверное. Подхватив свой чемоданчик, я тоже направился к автобусу. У дверей оглянулся, и сердце мое замерло ― Жанат... Да, это ее бантик розовой бабочкой мелькал в кустарнике, густо разросшемся вдоль арыка.
― Ой, еще немного бы и опоздала!― она перевела дыхание.― Вот!
Девушка протянула мне небольшой, аккуратно перевязанный сверток.
― Что это, Жанат?
― Подорожник... Прикладывайте к больному месту ― заживет.
Автобус взревел мотором. Я прыгнул на подножку.
― Спасибо, Жанат! Прощай! Будь счастлива!
― И вы, ага, будьте здоровы! Не забывайте...
Она, убыстряя шаги, шла за набирающим скорость автобусом.
― Я буду писать вам... В блокноте сестры есть ваш адрес...
Девушка, взмахнув рукой, отстала, остановилась посреди дороги. Ее маленькая, устремленная вперед фигурка белела до тех пор, пока автобус не перевалил бугор. Все... Я развернул пакет и прижался лицом к зеленой прохладе подорожника, жадно и глубоко вдыхая его тонкий и свежий, еле уловимый аромат. Я вдыхал его и уже знал, что теперь никогда, никогда не оставит меня целебная сила родной земли.
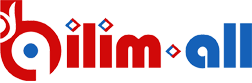


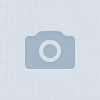
- Альфред Адлер
- Альфред Адлер
- Альфред Адлер
- Альфред Адлер
Барлық авторлар
Ілмек бойынша іздеу
Мақал-мәтелдер
Қазақша есімдердің тізімі